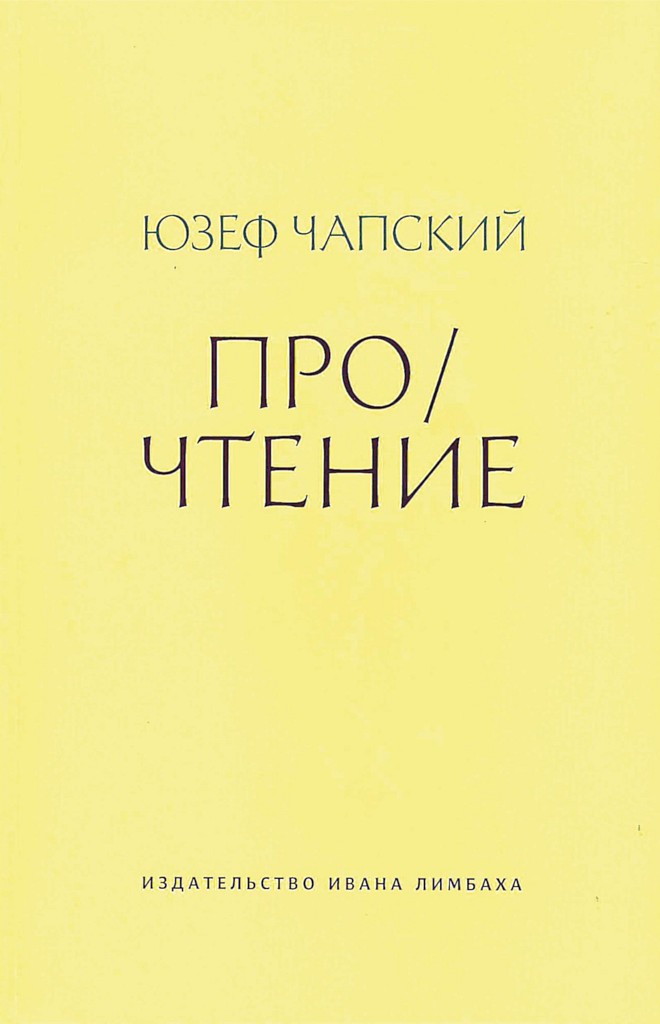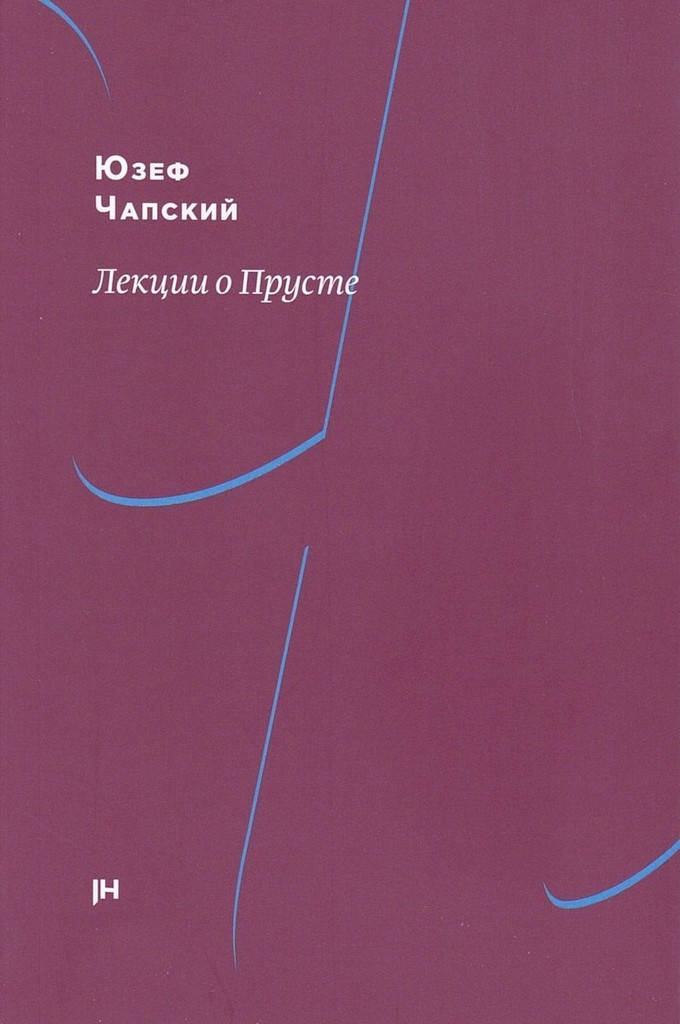29. Смерть Мориака
Во всех газетах полно статей, фотографий, высказываний, упоминаний о нем писателей и политиков, журналистов, столько банальностей, столько повторов, что сложно докопаться до живых, точных и действительно прочувствованных слов. Мероприятие в Академии, скучное, министерское выступление доброго Мишле [417] и замечательное — Гаксота [418]; «атмосфера серы, молний и горячки» (по-французски это, должно быть, звучало иначе, сильнее: «climat de souf-fre, de foudre et de fièvre», с этими четырьмя «f»), служба в Нотр-Дам, Национальная гвардия и все эти лица сановников во главе с президентом и его супругой, лица, наскучившие нам в телевидении, «Матчах», «Пари-Суарах» и т. п.
Почему все это раздражает, ведь и сам Мориак всю жизнь участвовал в этой гонке «за почетом и славой», в молодости даже страстно; раздражает потому, что огонь, который сжигал его жизнь, его творчество, был не там, он был в стороне и глубже. «Я и мой Бог». «Я и телесная любовь». Верность земле, похотливой и безгрешной Кибеле, и тут же Паскаль: «Нужно любить только Бога и ненавидеть только себя».
Но заметка в газетах, что похороны пройдут en stricte intimité [419], к сожалению, не в Малагаре, его настоящей родине, но тоже вдали от Парижа, среди деревьев, в узком кругу родных и ближайших друзей, — приносит облегче-ние, потому что это связано с глубокой и истинной стороной его жизни, и все национальные трубы и барабаны, речи, Нобели и ордена перестают иметь значение.
* * *
«Ведь что такое взгляд назад? Его можно сравнить с тем моментом, когда водитель машины одновременно смотрит в зеркальце на оставшуюся позади дорогу…» Хаупт пишет в последнем номере «Культуры»: «Подробности исчезают, они были рядом такими яркими, а теперь едва держатся в памяти, потому что на нас несутся новые и новые…».
Водитель обязан смотреть вперед, в это новое и новое, и только на секунду может взглянуть в зеркальце назад. Насколько же иначе я это почувствовал сегодня под впечатлением от смерти Мориака, как будто теперь уже можно смотреть и смотреть назад, потому что зеркало заднего вида становится все важнее, новое все уменьшается, а изображение в зеркале заднего вида растет!
Мое первое открытие Мориака: почти 50 лет назад, шок, но любил ли я его? Мориака было трудно любить. Конечно, я читал романы — удушливый, жестокий мир, переданный с несравненной силой, мир отталкивающей религии, сросшейся со страстью обладания, бунт Мориака, его обнажение этой стороны религии, неразлучной с религией денег, герои романов — матери, терроризирующие своих детей, разрушающие их счастье, старые любовницы, жаждущие любви, ненасытные, преступные, и их мир — «пустыня тошноты» (так он назвал один из своих романов). Мориак умел в одной фразе передать ад ревности, ненасытности, но также в одной фразе и счастье взаимной любви девушек и юношей. Католический мир, впутанный в мир желания, полностью отрицающий пол как опасность и грех, изредка освещаемый секундами несравненного света, полного самопожертвования — святости.
Я буду жить с Тобой, потому что всякое другое сожительство полно опасностей. Буду жить с Тобой, потому что всякая другая пища — яд. Буду жить для Тебя, потому что тот, кто живет для себя и не живет для Тебя, не жив, но мертв.
Этой молитвой янсениста Хамона Мориак заканчивает свою работу о Расине.
* * *
«В этот взгляд на уходящее, прошедшее, — пишет Хаупт, — закрадывается собственный клубок мыслей… — это составляет наш отдельный, ненастоящий, не существующий по-настоящему мир».
Как сделать так, чтобы, когда пишешь о мире, который сегодня в два часа ночи Мориак унес с собой в могилу, ничто не было ненастоящим.
В 1930-м, а может быть, 1929 году я впервые посетил Мориака. Я тогда прочел «Страдания христианина» в «Нувель ревю франсэз». Позднее этот текст вышел в дополненной книжной версии по совету друзей-католиков со словом bonheur [420]. «Счастье и страдания христианина». Я в ту пору хотел писать о Розанове [421]. Какими же розановскими были эти страницы, написанные человеком другого полюса, темперамента и стиля жизни. Мориак уже тогда был звездой в мире современных писателей. До меня доходили слухи о его религиозном кризисе. Я увидел Мориака совершенно другим, нежели себе представлял. Мы сразу затронули вопросы, связанные с религией. Он сидел ссутулившись на диванчике и объяснял мне свою позицию, говорил с поразительной искренностью, как будто мы давно знакомы, сказал, что у него был период, когда он, живя в Париже, отошел от католицизма (от христианства, потому что для него христианство и католицизм всегда были понятиями равнозначными), отошел, казалось, насовсем. Ночью, в каком-то boîte de nuit [422], певица между более чем двузначными песенками позволила себе какую-то скабрезную шутку о Христе, «и я вдруг встал и вышел, не понимая, что со мной происходит, но не мог это слушать. И я поразился своему поведению. В чем дело? Откуда эта реакция? Значит, ты любишь Его — не этот мир?» (Гораздо позднее я нашел эту сцену в одной из книг Мориака.)
Он спросил меня тогда, какая его книга мне больше всего нравится, — я ответил, что «Destins» («Судьбы»).
Он отреагировал с неохотой: «Это самая мутная из моих книг (le plus trouble de mes livres), но знаете, — вдруг оживился он, — и она однажды сыграла освобождающую роль. Я получил письмо от юноши из Сен-Сира; он сооб-щал мне, что после ее прочтения решил поступить в монастырь».
Я машинально и беспечно возразил: «Если что-то отдалило меня от католицизма, так именно эта ваша книга!»
И вдруг я увидел, что для него мои слова были ударом в самое сердце. Он весь сжался.
«Ne dites pas cela» [423], — произнес он вполголоса.
Одна эта реакция дала мне понять, насколько вопрос религии был для него всеобъемлющим, даже физическим переживанием. Собственно, в тот момент я полюбил Мориака. Позднее я встречал его еще не раз, читал все его тексты до последнего «Bloc-note», но та первая встреча была и остается для меня самой значимой.