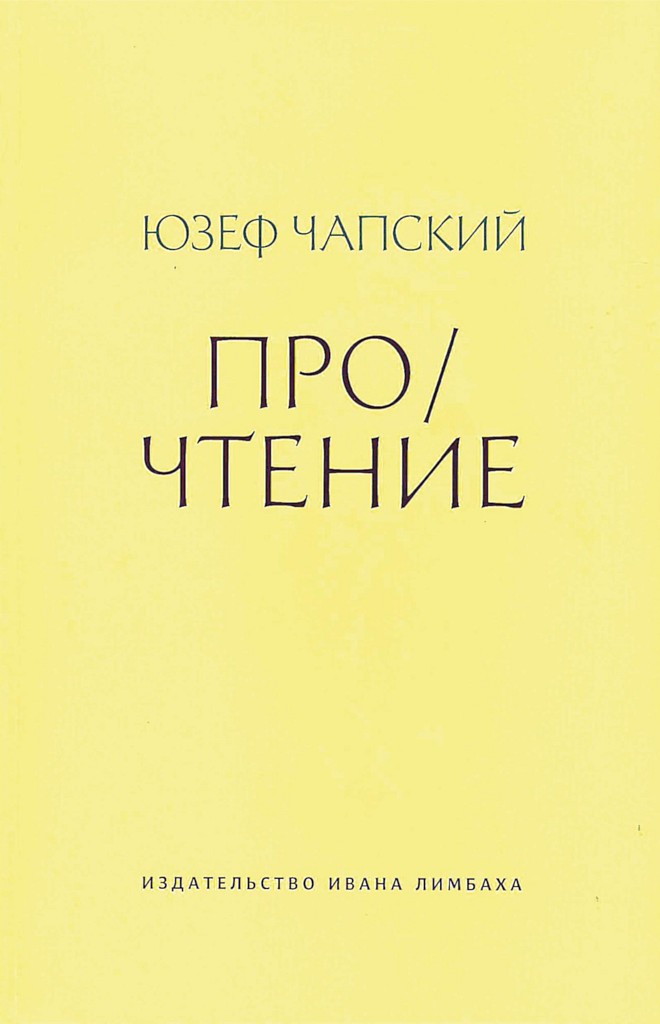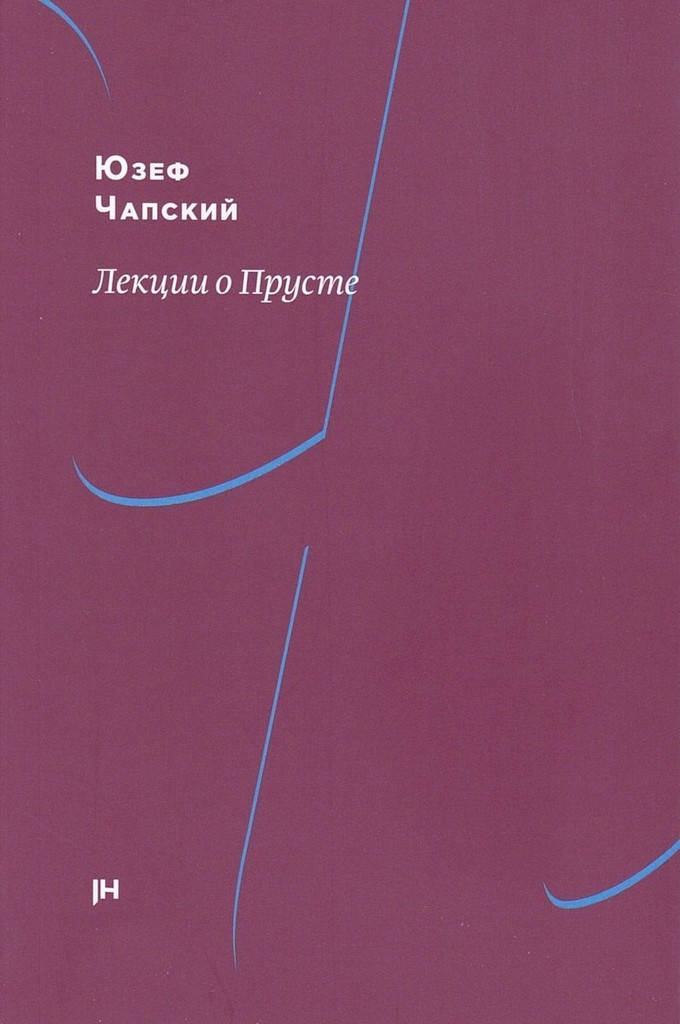И великим вещам дает ход: каждый час, каждый век, Каждую Эру — и тогда говорим мы: …вот — Человек!
Но человек Норвида, «насыщенный небесным эфиром», — вовсе не эфемерен. Норвид требует от него ответственности и борьбы здесь, на земле. Даже будучи противником бездумного геройства, он знает, что такое способность к самопожертвованию как человеческое качество, и чтит эту жертвенность.
В письме к Констанции Гурской (шедевре эпистолярного жанра) Норвид выражает свое отношение, противопоставляя пару образов без комментариев:
В 1848 году […], проходя по плоским камням, которыми вымощены бульвары как идти к Магдалене, приходилось осторожно перешагивать через ручей красной человеческой крови, текущей со стороны Министерства иностранных дел поперек улицы вниз.
Эта кровь была пролита умирающими людьми, которые, возможно, и ошибались, но проливали ее изо всех жил своих за то, чтобы те, кто будет жить после их смерти, были свободнее, и выше, и счастливее.
Мои ботинки перешагивали через этот поток человеческой крови.
Дальше он пишет о 50 тысячах человек, погибших под Сольферино, которых любили их матери и сестры: «Их внутренности волочились по земле — светило солнце — гниль распространялась — собаки лизали мертвые тела». И о 80 тысячах мертвецов, в один и тот же день «разверзших свои внутренности, залитые кровью»… «чтобы те, кто будет жить после их смерти, были немного выше и счастливее», о замученных в Японии, имена которых в Риме должны быть воздвигнуты на алтари, рядом с Чашей, и вспоминает последнюю Пасху, во время которой «сто с лишним миллионов людей по всему миру приняло Бога во внутренности свои, сердцем и языком». И, благодаря панну Констанцию Гурскую, которая «любезно внушала ему мысль, что человек — ничтожество и нуль», видимо, во время беседы в ее салоне, где пани Эссакофф «очень удивляется, как можно два часа молча просидеть в своем углу», Норвид показывает еще другой образ человека: «Анетта заваривает чай, Ротшильд играет в биржу, пани Францишкова Потоцкая выходит замуж… пани Икс уколола палец шпилькой, пан О. нюхает табак» — и заканчивает: «Человек есть ничтожество, нижайший слуга, Ц. Норвид».
В этом письме мы видим поэта в салоне, одном из немногих, где он был почти членом семьи, и нам легко себе представить, какой была реакция на его ответы и поведение.
Общество, знавшее его лишь по редким выступлениям и сколь же немногочисленным опубликованным текстам, возможно, по письмам, всегда непредсказуемым, которые наверняка перечитывали друг другу, — это общество не могло его принять полностью. Удивляться тут не приходится.
О Мицкевиче, национальном поэте-пророке, Норвид совершенно спокойно пишет, что он вовсе не был национальным, а просто поэтом, потому что национальность для Норвида — это «не исключительность, но сила присвоения себе всего, что для прогрессивного развития собственных свойств потребно и необходимо» [331]. В разгар восстания в воззвании к Мерославскому [332] и во многих письмах он призывает нас помнить не только о том, что отделяет нас от России, но и о том, что нас с ней соединяет.
Он пишет, что «прививание отвращения к словам москаль, Москва — деятельность одновременно антиисторическая и антиполитическая», потому что в России, как считал Норвид, нам следует искать и найти друзей, не порицая ее огулом, причем именно тогда, когда мы с ней боремся. Как бы сейчас отнеслись к человеку, в столь же резких выражениях провозглашающему подобные истины? Но Польша и борьба за Польшу для Норвида всегда были связаны с тем, что он называл общечеловеческим чувством, и поэтому он нам сегодня так необходим: как тогда, так и сейчас он был бы ярым противником любых узких национализмов, которые стали бедой нашей эпохи.
* * *
Почему этот поэт, более 80 лет назад нашедший пристанище в Доме Св. Казимира, написавший «Браслет», «Горсть песка», «Клеопатру» и еще столько великолепных текстов, кажется мне уже сегодня победителем? О нет, не в смысле успеха («успех, конечно, опьяняет») и не в том смысле, что у него есть шанс войти под стреху [333], как «Пан Тадеуш», — Норвид всегда останется писателем сложным, писателем для немногих, но факт в том, что людей, кому он сопутствует, кого озаряет и поддерживает, становится все больше.
Нельзя не вспомнить Мириама — его увлеченности и упорству мы обязаны тем, что можем сегодня читать Норвида. Мириам посвятил ему всю жизнь, и даже в свои восемьдесят три года, будучи раненым и теряя сознание во время Варшавского восстания, он давал распоряжения, как издать последний том политических и философских сочинений Норвида, которые под редакцией Заневицкого были так замечательно изданы в эмиграции «Официной поэтув и малажи» на основе одного корректорского экземпляра, спасенного из пожара при Варшавском восстании.
Как звучал Норвид в оккупированной Варшаве, мы знаем из послесловия Вацлава Борового к избранным мыслям поэта, которое Боровой в то время готовил, и из многочисленных рассказов: об этом пишет и Заневицкий в предисловии к «Философским и политическим сочинениям».
Я сам помню, чем были для меня тома его писем в лагере в Грязовце, чудом туда дошедшие.
Если говорить о послевоенной эпохе, не будет, наверное, преувеличением утверждать, что и в Польше, и в эмиграции из поэтов XIX века Норвид давал самую обильную пищу, как интеллектуальную, так и поэтическую; что для многих молодых поэтов он был более новаторским и даже более понятным, чем «пророки»; что такие его стихотворения, как «Фортепьяно Шопена», как некоторые его лирические стихи или поэма «Прометидион», теперь уже известны не меньше, чем «Крымские сонеты» или «Бенёвский» [334].
Значит, стал победителем поэт, писавший о себе Марии Трембицкой [335] сто четыре года назад:
То, что я говорю, ведь скажут редко… Я говорю, точно диковинная птица, Что продана, посаженная в клетку, И очи ничего не видят, кроме тьмы, Чтобы ей петь весну среди