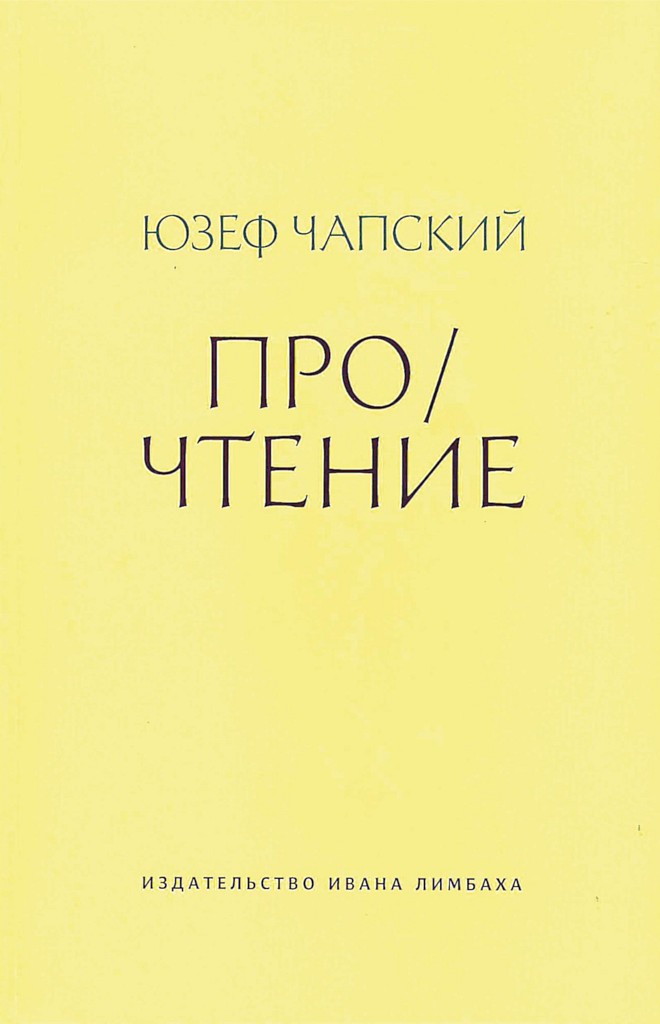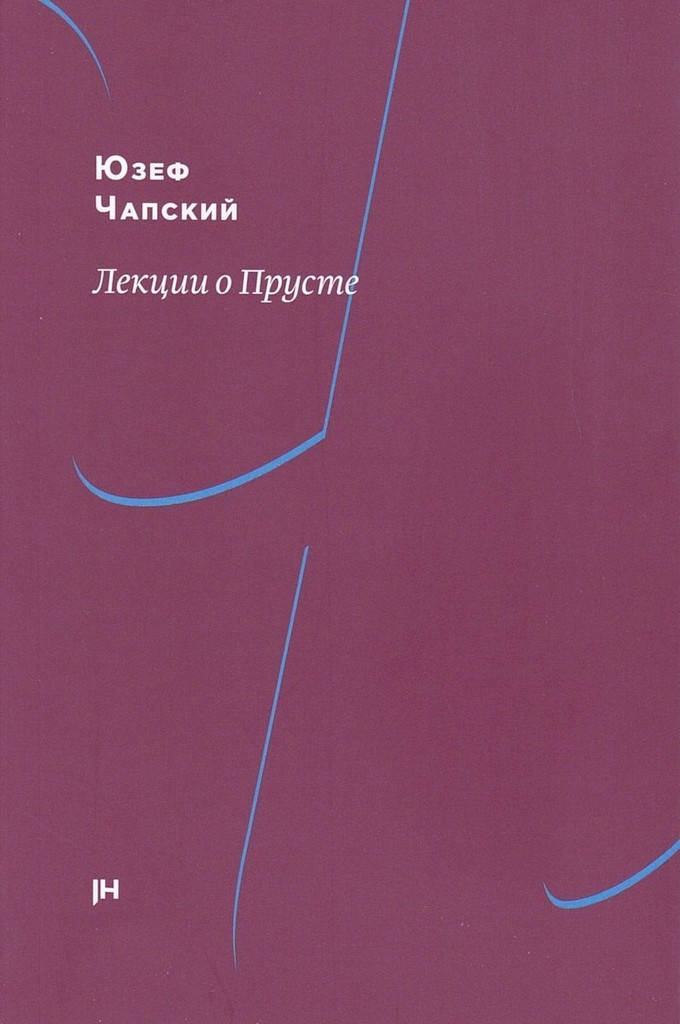l:href="#n_341" type="note">[341] Дрюмона — по мнению Пеги, компаньона и друга Даниэля, «прославился тем, что открыто призывал к расправе». Читая «L’Homme Libre» в 1897 году, Даниэль с ужасом записывает: «Пучина ночи то и дело разверзается у нас под ногами».
Мориак ошибается, намекая в своем «Bloc-notes», что Даниэль Галеви поменял отношение к «делу Дрейфуса»: его мнение осталось прежним. Именно «дело» стало причиной резкого разрыва Дега с семьей Галеви, почти ставшей его собственной. Стоит внимательно прочесть об этом окончании дружбы. «Она гибнет от унизительных слов». В этом весь Даниэль Галеви. Дега навестит своего друга Людовика Галеви только одиннадцать лет спустя, на смертном одре. Описание этой последней встречи — одно из самых пронзительных в книге.
Отношения между Дега и Даниэлем сохранились исключительно благодаря верности Даниэля и его восхищению, вопреки всем и вся, человеком, о котором он впоследствии скажет: «Всем лучшем во мне я обязан ему».
Даниэль продолжает вести заметки о своих встречах с отшельником, своим учителем, вплоть до аукциона Руара в 1912 году, на котором Дега, эта «лошадь, участвующая в больших скачках и довольствующаяся горсткой овса», уже слепой, присутствует при невероятном взлете цен на его полотна; а потом еще Дега на выставке рисунков Руара, «сидящий посреди зала Гомер с пустыми глазами». Последний раз Даниэль посетил больного Дега, за которым ухаживала его племянница, в 1916 году, за год до смерти художника: «…В какой-то момент племянница подошла, чтобы поправить подушку. Ее предплечье было прикрыто тонким легким рукавом. Вдруг Дега хватает его обеими руками с неожиданной силой и поворачивает к свету, падающему из окна. И смотрит на него пристально и страстно… так значит, он до сих пор работает, а я был уверен, что его творческие силы поражены».
Завершают книгу страницы, написанные весной 1918 года, всего через несколько месяцев после смерти художника. Они посвящены выставке работ из мастерской Дега у Пеги — старых картин, с которыми он не хотел расставаться, последних рисунков и пастелей. Сам Галеви пишет, что они «сделаны тяжелыми, грубыми штрихами… какое-то упорное стремление к уродливости, к низменности, которое удивляет и огорчает». И тут же рядом — его ранние работы, «рисунки, наброски к Семирамиде, молодые спартанки, Орлеанские мученики, самые изящные формы, забота о красоте и достоинстве человеческого тела…». На это мне хочется закричать Даниэлю Галеви, самому верном другу Дега и автору этой чудесной книги, что тут он совершенно не прав: рисунки, пастели, некоторые из которых мы могли видеть этим летом на выставке Дега у Дюран-Рюэля, — это гениальные рисунки и пастели. Уже Лемуан настаивает на том, что эти вещи были для Дега лишь эскизами, черновыми набросками. Но их значение гораздо большее — они открывают путь к новым горизонтам, ко все более лаконичной живописи, которая дала нам Тулуз-Лотрека, Вюйара, Боннара и скольких еще художников к вящей славе искусства. Галеви сожалеет о «сужении искусства» у Дега, но сам художник говорил, что «искусство не расширяется, а сосредотачивается», и никто не продемонстрировал это лучше его, с большим упорством и осознанностью.
«Я хочу прийти туда, куда хочу, когда хочу и как хочу», — сказал Дега Даниэлю в 1897 году. Какой же путь он проделал от «Семьи Беллели» (Лувр) 1860 года, с такой новаторской для своего времени композицией, с этими обоями в качестве фона, который словно прокладывает дорогу какому-нибудь Вюйару, до «Женщины с распущенными рыжими волосами» в Национальной галерее в Лондоне! Вплоть до монументальных ню 1897–1907 годов, как, например, то в темно-коричневых тонах на цветочно-зеленом в фоне с холодным белым полотенцем и оранжево-желтой ширмой на первом плане, и все это в грубой штриховке пастелью (тонкий инструмент Латура!), как никто до него не делал. Или согнувшаяся женщина-зверь, выкарабкивающаяся из ванной, ее бурое тело, чуть тронутое красным, ее огромные ляжки першерона, а на заднем плане — синий фартук и розовая блузка служанки с белой чашкой в руке [342].
Если судить по этим монументальным формам, я не нахожу никого в XIX веке, кто мог бы сравниться с Дега по силе, лаконичности, по уверенности и мощности тонов; рядом с ним Делакруа и даже Домье выглядят почти что робкими. Сезанн не уступает Дега или даже превосходит его, но в совсем другом регистре. Элемир Бурж, протест которого против подобной живописи, называемой им «выставкой уродства», звучит на последних страницах книги Галеви, обвинил бы меня в кощунстве, но по грандиозности я могу сравнить это только с несколькими рисунками Микеланджело, c теми же Сивиллами в Сикстинской капелле, не считая цвета.
В завершение я хотел бы процитировать последние заметки из дневника Даниэля 1918 года:
«Я вдруг снова увидел Дега в привычном образе, с длинными волосами, с растрепанной бородой, стоящим в мастерской: „Как же все было бы просто, если бы нас оставили в покое… Журналисты мучают публику нашими картинами, мучают нас своими статьями, своими суждениями: ничего не объяснишь… Как глупо заставлять людей ходить на то, что мы делаем: красота — это тайна“. Он говорил без нажима, скорее с сожалением, грязный, опустившийся, сдавшийся Просперо в мастерской, где странные скульптуры, высушенный воск крошились и распадались в пыль в пыли, где начатые полотна без грунтовки, без бумаги, повернутые лицом к стене, составляли самые грустные декорации. Так он жил, в грязи, во мраке, ощупывая, переворачивая свои картины: жил, пока усталость и безграничное безразличие не овладели его умом и не угасили желания; он умер в этом безразличии, в этой бедности на шестом этаже высокого дома, где жил, как призрак, среди всех своих рисунков и картин».
Галеви заканчивает книгу словами Дега: «Никому не удалось добиться таких великолепных результатов своего отчаяния».
Никому не удалось так рассказать о Дега, как Галеви в его маленькой большой книге.
«Preuves», октябрь 1960
21. «Другой берег» и собственные воспоминания
Я никогда не сумел бы сделаться профессиональным литературным или художественным критиком. О картине, о книге, не ставшей личным переживанием, столкновением или хотя бы поводом для возмущения, у меня никогда не было потребности писать — а как писать, если нет потребности?