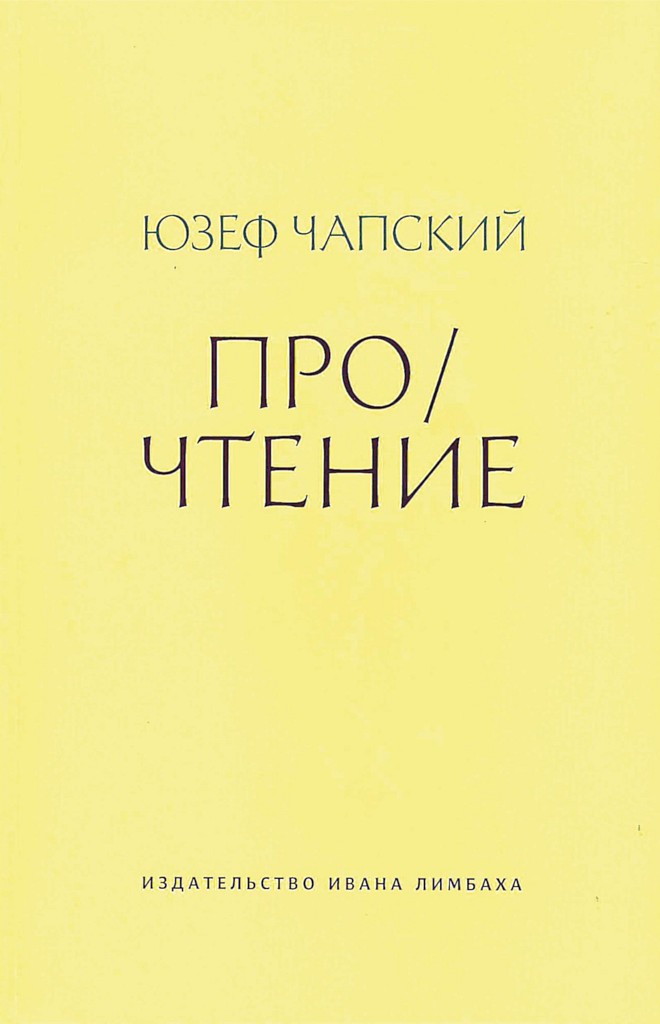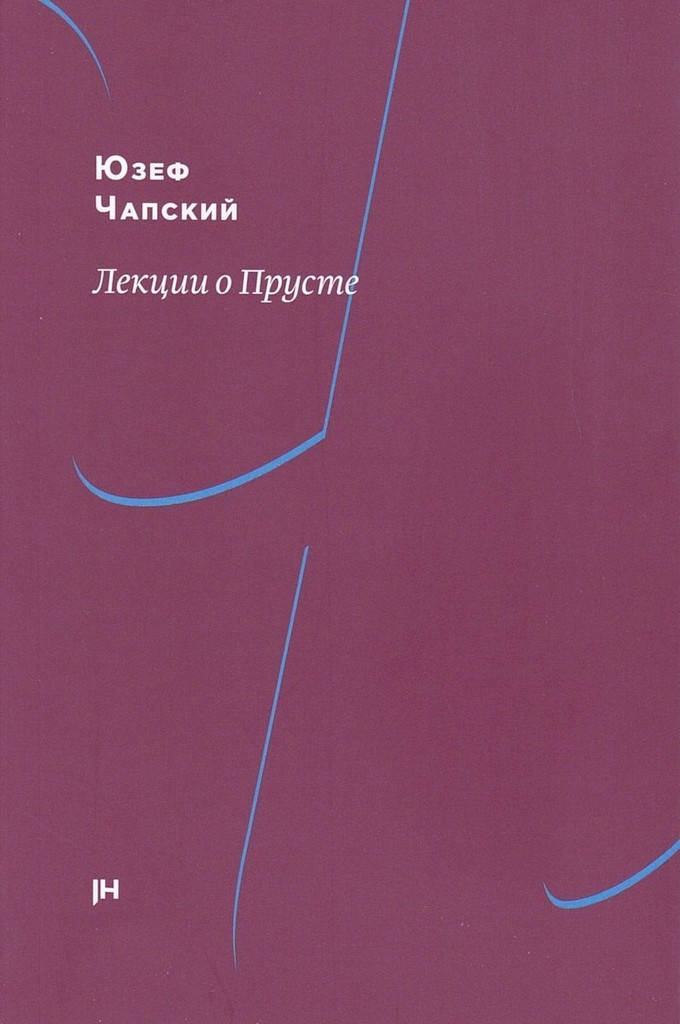Гватемале, кружок моделирования, и сама борьба за жизнь, за независимость или просто лежание на траве, плавание были для него так же важны, как литература.
У Жака уже проявляются признаки чистого интеллекта, он боится воды и физических усилий. Ему грозит вырасти одной из многих интеллектуальных орхидей. Жалко мальчика. Как же я благодарен моему отцу, что он хоть порой и жестко, но сформировал мое тело по человеческому образу и подобию. Сейчас я одинаково хорошо и легко плаваю и думаю, —
— замечает Анджей с юношеской гордостью.
Я хотел бы писать о нем так, как будто это письмо к нему, с нежностью или бранью, со свободой и непосредственностью, всегда присущими его стилю. Анджей Бобковский не только не боялся, что его обвинят в том или ином «преступлении» (плохой поляк, неправильный левый, плохой католик или собственно католик), он даже любил всех провоцировать, словно искал столкновения. Но за его горячностью всегда стояло чувство юмора, он в любой момент был готов угостить противника водкой, мартини или каким-нибудь крепким гватемальским напитком, чтобы по-дружески запить спор. В нем не было ни капли селиновской горечи, причем писал он без оглядки, без «хитрой» диалектики, ненавидел ее, и часто ненавидел неумно, вкладываясь в каждое слово и увлекаясь без остатка.
Я перечитываю его письма в «Культуру» и то, что он в «Культуре» публиковал, возвращаюсь к «Наброскам пером». Когда они вышли, я их не оценил, они казались мне слишком по-юношески задиристыми, словно он ломился в открытую дверь, и только теперь я вижу, что они полны не только точных, пластичных наблюдений за повседневностью, комментариев к событиям и прочитанным книгам, но и мыслей, которые Анджей «поверял» своей собственной буйной и благородной жизнью. В этих записях 25-летней давности я нахожу те же моральные оценки окружающего мира; уже тогда он противился любому лицемерию, оппортунизму, выспренней лжи, трусливому уходу от ответственности, перекладыванию ее на других, например на государство, любому тоталитарному или даже демократическому «стадному чувсту», что заставляло его в «Набросках», написанных в оккупации, защищать и оправдывать любую индивидуальную анархическую выходку и восхвалять чуть ли не хулиганов и «циников», походить на которых он порой так стремится в своих едких описаниях или выражениях.
* * *
Он уехал из Парижа еще в 1948 году, и я запомнил его таким, каким увидел однажды перед отъездом. Кажется, это была совсем ранняя весна, воскресенье, солнце. Я слонялся по Quai d’Orléans [368] на острове Святого Людовика, и вдруг сверху, от Польской библиотеки, увидел влюбленную парочку, прогуливающуюся вдоль кромки волн Сены под теми самыми огромными тополями, «как над Вислой», которые там растут. Я и сейчас вижу их сквозь еще голые ветви, они казались такими влюбленными и погруженными в диалог, что я не мог оторвать взгляд.
Вдруг я узнал их: это были Анджей и его жена Бася, они что-то обсуждали. Когда я к ним спустился, чтобы поздороваться, тут же почувствовал, что прервал их на очень важном месте, видимо, это был какой-то серьезный личный разговор.
Не помню точно, в тот раз или несколько дней спустя, они поведали мне свою тайну, тогда еще скрытую за семью печатями: что через пару недель отправляются в далекое путешествие.
Такими они оба остались у меня в памяти: в предвесеннем солнце, сосредоточенные и счастливые перед большим приключением.
Я смотрю на маленькую цветную фотографию, которую они прислали мне меньше года назад: оба улыбаются, Анджей в голубой расстегнутой рубашке, Бася в голубой кофточке на фоне красных кустов, зеленых холмов, зданий странной архитектуры с приземистыми колоннами. Тринадцать лет спустя они выглядели все такими же веселыми, самыми родными друг другу людьми. А ведь смерть Анджея была уже близко: «…жизнеутверждение… к этому, конечно, приходишь только на пороге смерти, о которой знаешь», — пишет он в 1959 году.
Настоящим приключением для Анджея был отъезд в Гватемалу в 1948 году, он, поклонник Конрада, всегда мечтал о далеких странах. Первую попытку к бегству он предпринял в четвертом классе гимназии, а в «Набросках пером», во время оккупации, то и дело упоминает свою мечту уехать из Европы, этой колыбели «культуры и концлагерей».
После парижских лет, когда он перебивался со дня на день, работал на заводе, потом в эмигрантских организациях, в НИД [369], в парижском отделении 2-го Польского корпуса в Hôtel Lambert [370], редактировал еженедельный бюллетень с новостями из Польши, Анджей уезжает с женой в страну, где они никого не знают, без определенной профессии, без языка, почти без денег, чтобы за пределами Европы начать новую жизнь. «Я хочу иметь право сдохнуть с голода, если у меня не получится». В его статьях и письмах часто повторяется этот мотив.
В Гватемале Бобковский, «начиная с нуля, отказывая себе во всем», вырезает кухонным ножом (даже «инструменты» он не мог себе позволить) деревянные игрушки, работает по четырнадцать-шестнадцать часов в день, срочно учит испанский, читая Мадарьягу [371]. У него не создается впечатление, что он очутился в маленьком городе, наоборот — на огромном континенте, где жизнь кипит. Поначалу все его очаровывает, и он ругает Европу, дрожащую перед Советским Союзом, европейских левых, все еще очарованных коммунизмом, Сталиным, и себя, что только теперь понял, как превратился в попрошайку [372]. Со свойственным ему красноречием он ругал и нас, эмигрантов: за громки-ми заявлениями, что мы не можем жить без европейской культуры, он обнаруживал в нас обыкновенный страх перед свободой, перед самостоятельностью, надежду на помощь IRO [373], Маршалла, Aide aux emigrés [374], квакеров, Джойнта [375] или парижского архиепископа.
Он жалуется, что не владеет каким-нибудь ремеслом, но утешает себя, что умеет отличить ножовку от пилки для ногтей, что уже выгодно отличает его от писателей-реалистов или марксистов в Польше.
Через пару месяцев нечеловеческой работы у него уже есть некоторые инструменты и фрезерный станок по дереву, и он с раздражением смотрит на сидящих вокруг по квартирам IRO «культурных» эмигрантов, поносящих «хамскую» Америку, IRO, которая их содержит и вечно чего-то недодает.
Бобковский прижился в Гватемале, как сам пишет, влюбился в нее. Поначалу, кажется, он видит в ней одни достоинства, с годами оценки становятся точнее и разнятся, и он не скупится