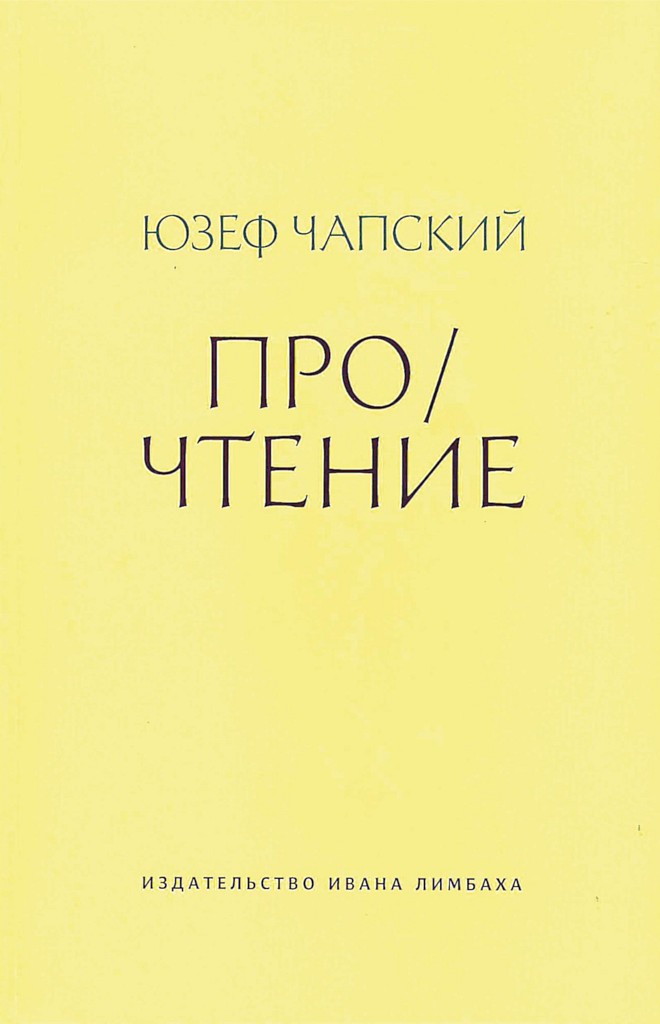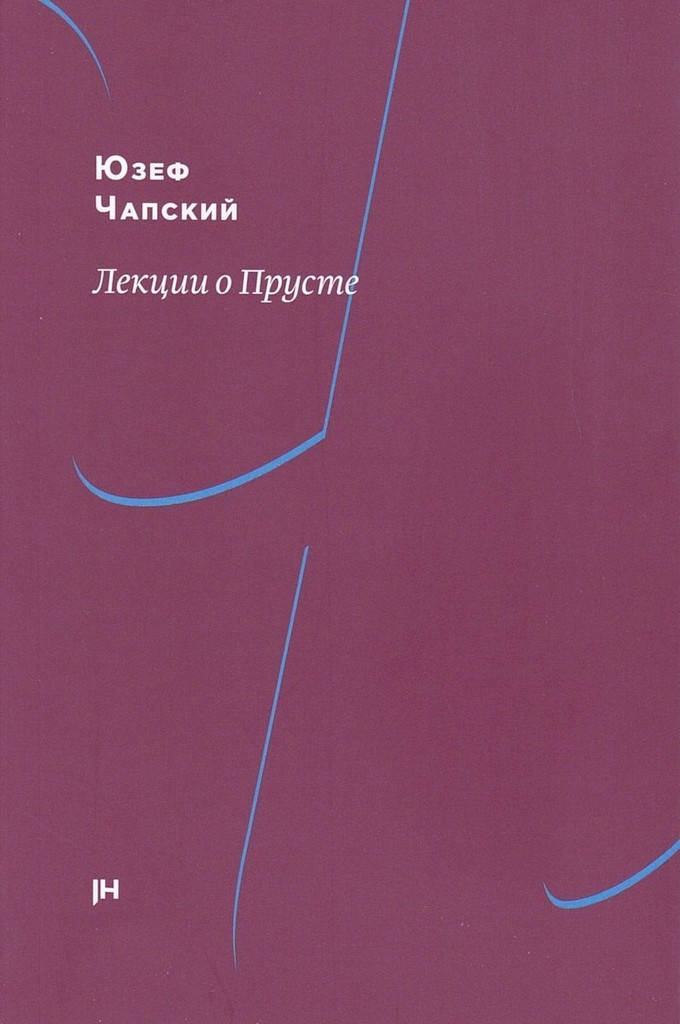так трогательно, как местные испанские конквистадоры, что видели тут беленые индейские хаты, а клялись, что серебряные дома…
Потом Бобковский притормаживает: «Мне нужно еще подумать, надо быть справедливым… но такие книги — увлекательный клинический случай… и с какой легкостью все объясняется „периодом искажений“».
В одном из последних писем к Ежи Гедройцу он нападает на ревизионизм. Весь ревизионизм для Бобковского — не что иное, как «стремление получить какие-то неопределенные свободы без отказа от очень конкретных преимуществ рабства. Люди не хотят быть свободными, не хотят брать на себя риск свободы».
Бобковский, конечно, несправедлив, осуждая всех скопом, он торопится, разрубает узлы, даже не пытаясь их распутать, — так почему же я испытываю потребность писать о нем, цитировать именно эти выпады и нападки? Потому что в них он всегда кажется мне прекрасным, едким, потому что он как никто другой умеет «прокалывать мозоли», заставляя каждого из нас задуматься над собой.
* * *
Кто напишет о Бобковском-писателе, кто изучит, осмыслит его суждения? Если тенденциозно вырвать из контекста пару цитат, полемических шаржей, то из этого врага любого тоталитаризма можно сделать полуфашиста, как пытались в эмиграции сделать Милоша агентом большевиков!
Кто проследит развитие его мысли от благородного, мужественного анархизма поляка, которому был противен и польский сентиментализм, и польское самораспинание, и одержимость сплошной польскостью, до последних зрелых текстов; кто осмыслит его борьбу с «трухлявыми идеологиями», борьбу за «человека из плоти и крови», полноценного, свободного, свобода которого не была бы прикрытием злости или пустым словом.
Кто напишет о его прозе, которая с годами становится все более густой. «Наброски пером» еще кажутся порой упражнениями талантливого реалиста, поклонника братьев Гонкур, Флобера и особенно Бальзака, но со временем его проза все лучше выражает не только соображения автора, но и сам ритм дыхания этого писателя, страстно — как Хемингуэй — любившего жизнь, приключения и мужественность, но мыслью и самим глубинным потоком сознания ушедшим, может быть, еще дальше.
Благодаря его наблюдениям, более того, слиянию с окружающей природой мы не только видим ее, видим тропическое солнце, сначала оранжевое, потом медное, быстро наскакивающее на верхушки деревьев, или матовое, белое, как таблетка аспирина, с трудом пробивающееся сквозь густой туман, или бархатный полет летучей мыши под черной шапкой листьев, или светлячков, словно трассирующие пули вылетающих из прибрежных зарослей, — но мы эту природу еще и слышим. Как часто Бобковский пытается передать нам свои слуховые впечатления, которые во сто крат усиливают резкость картинки; жужжание майских жуков, нарастающее под вечер, когда стихают другие звуки, топот кроликов в клетке, ритм и характер их танца, или проглоченный тишиной глухой всплеск пеликана, ныряющего за рыбой, гул миллиардов комаров, покрывающих весь фюзеляж огромного гидроплана звуковым саваном, и крики «gruyas» (журавлей?), монотонные, заунывные, раздражающие, как глупый женский плач.
Когда ты пишешь так, как только можешь, сильней, чем голосом, — всей речью нашей, тогда искать не нужно больше сути — она повсюду, как небо над нами.
Так пишет Вацлав Иванюк в прекрасном стихотворении «Суть» [383].
Достаточно вчитаться, действительно вчитаться в Анджея Бобковского, чтобы почувствовать, что суть — повсюду. В своих рассказах, в любовных, нежных описаниях природы, во внезапно прерывающих повествование размышлениях, откровениях он затрагивает не только мир и человека, но и как бы само существо того трудного пути, по которому шел до последнего. То и дело касается сути.
«Не хочу себе льстить, — пишет он в одном из писем, — но боюсь, что я там, в Польше, на особом счету. Я отношусь к тем немногим, о которых Totschweigen [384]».
Это «молчание насмерть» о нем в Польше понятно и действительно льстит Бобковскому, потому что именно он — сын Конрада — мог бы стать незаменимым товарищем многим молодым полякам, мечтающим о приключениях, о жизни без цензуры, без танцев под дудку, без «трухлявой идеологии», о жизни по собственному выбору, ответственной и полной.
* * *
Анджей Бобковский похоронен в семейном склепе доктора Кеведо, четверых сыновей которого он двенадцать лет учил авиамоделированию. Все они были рядом с ним до последних дней.
1961
23. О Павле Гостовце [385]
Manche liegen immer mit schweren Gliedern
Bei den Wurzeln des verworrenen Lebens
Andern sind die Stühle gerichtet
Bei den Sibyllen, den Königinnen
«Близ цариц-сивилл»
Эти строки я даже не пытаюсь переводить. Что останется от их магии? — Ничего. Я попробую только пересказать содержание стихотворения Гофмансталя, строфа которого кажется мне как будто написанной для Гостовца и о нем.
Одни умирают, — пишет поэт, — там, где ворочаются тяжелые весла судов, другие живут у кормила, зная птичий полет и звездные страны. Одни всегда у корней темной, смутной жизни, другие живут в сени цариц-сивилл. Но на легких счастливцев падает тень, тень тех, кого душит стихия жизни, и легкие и тяжелые связаны между собой, как воздух и земля. Поэт, живущий с сивиллами, дальше говорит так:
Ganz vergessener Völker Müdigkeiten Kann ich nicht abtun von meinen Lidern Noch weghalten von der erschrockenen Seele Stummes Niederfallen ferner Sterne
Усталость забытых народов не может стереть он из виду, и душа его, ужасаясь, не может забыть немого падения далеких звезд. И все судьбы, вросшие, вошедшие в его судьбу, — больше, чем тонкий огонек его жизни и его узкая лира.
Я не