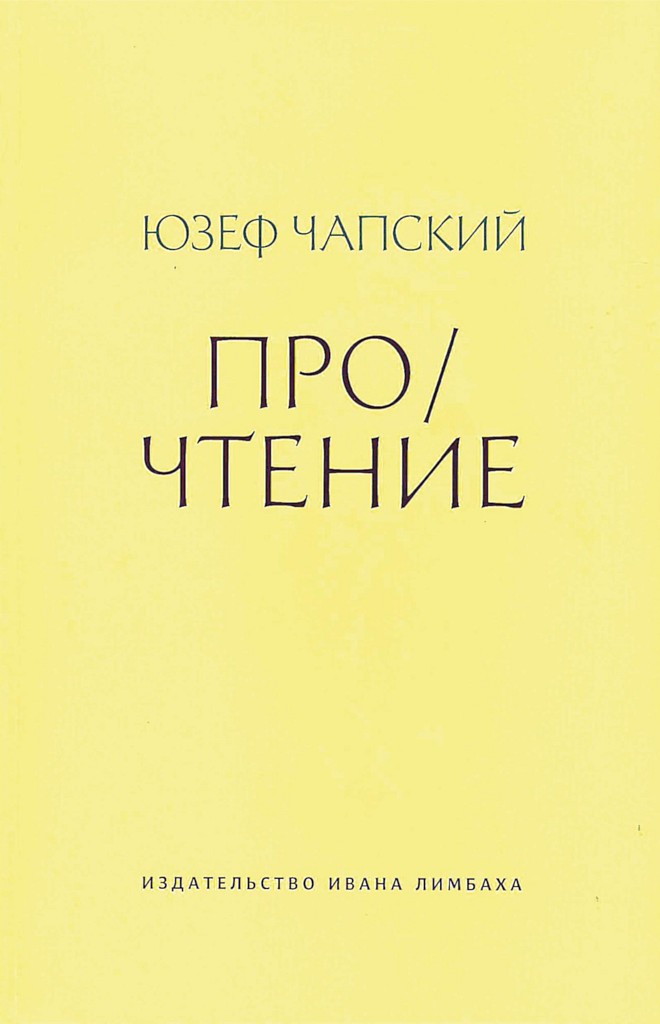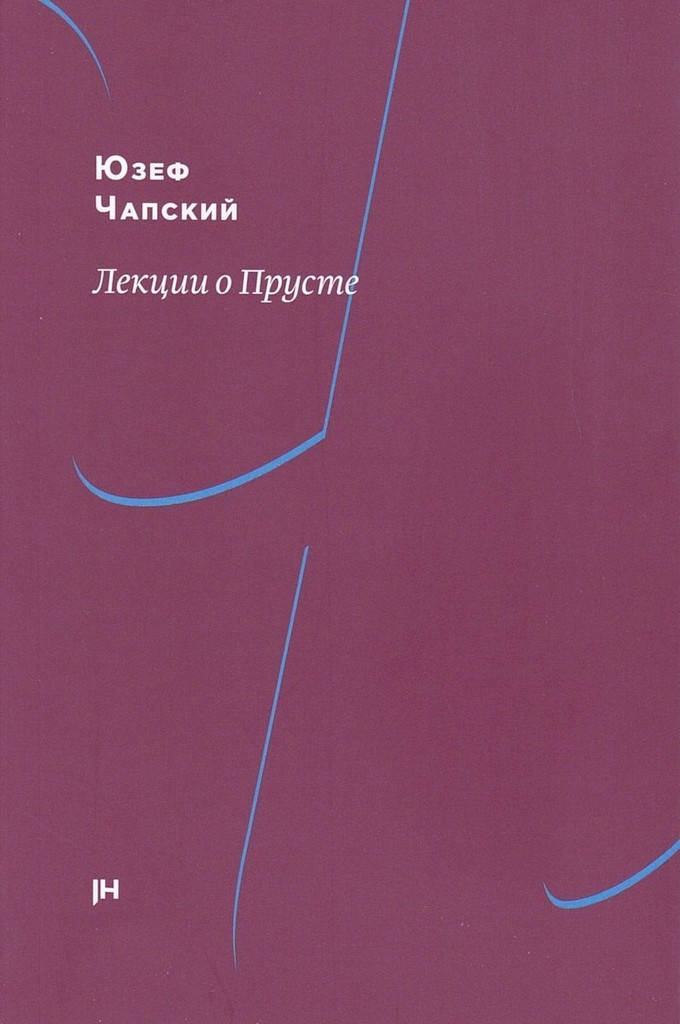риторики.
Именно поэтому Гостовец с такой серьезностью подошел к «Башне» Герлинга-Грудзиньского, видя в рассказах писателя попытку порвать с выхолощенной абстрактной конвенцией.
Несмотря на то что Гостовцу чужда исповедальность любого рода, внимательный читатель то и дело находит страницы, сквозь которые, как сквозь прозрачную корку льда, виден интимный мир автора этой уникальной книги. В одной из глав «Неторопливого пешехода» («Заботы музыкального критика») цитируется письмо Мопассана, о котором я уже писал в «Культуре». Мопассан признается, что живет только ради впечатлений, ради неуловимой красоты, едва проскальзывающей в некоторых словах, пейзажах, мгновениях. «Я не могу ни передать их другим, ни выразить, ни описать. Я храню их при себе. У меня нет другого смысла, другого повода жить дальше», — пишет он. Значит, Мопассан не знал, что умел передать, дать почувствовать эти особенные моменты! Когда я слышу его имя, мне вспоминаются переданные им ощущения на Ривьере, роща пробковых дубов с содранной корой, кровоточащих по-человечески, рядом с фермой, где старая женщина убивает себя из-за несчастной любви, или камыши на пруду, или собака, брошенная в пересохший колодец экономными бретонками, не желающими ее больше кормить. Я не помню даже названий тех новелл. Любовь Гостовца к Мопассану говорит о многом. Жестокая, порой невыносимая боль этих рассказов, которые Мопассан обычно вкладывает в уста равнодушных наблюдателей или передает сам с наружной отстраненностью или даже цинизмом.
Когда Гостовец пишет о том, что все мы, если вдуматься, руководствуемся критериями Мопассана, потому что каждый живет ради секунд или минут впечатлений, которые мы не в силах четко описать, о которых мы рассказываем осторожно, боясь спугнуть, или вовсе молчим, он намекает на тайный смысл собственного существования. И возможно, он, как и Мопассан, не осознает, что умеет передать нам такие секунды.
24. О Хаупте
Прежде, чем меня подхватила паника,
бросая об стены мира, как пьяницу…
Зигмунт Хаупт. «Бумажный перстень»
Очередность значимости. Что может быть более очевидным, определенным, если речь идет о других, которых так легко упрекнуть в непоследовательности, неверности той или иной «железной» иерархии. Но достаточно применить эти требования к себе, и мы часто замечаем не только отклонения, но и зыбкость, переменчивость, условность нашей иерархии важных вещей. Она вдруг меняется, смещается по мере усиления тех или иных слоев переживаний, глубоких чувств или причуд. Как оценить, как определить, когда мы остаемся верны, а когда изменяем себе?
На это откровение натолкнула меня необычайная книга — «Бумажный перстень» [388] Зигмунта Хаупта. Она с новой силой дала мне понять, как чей-то самобытный взгляд на мир может отменить, смести нашу установившуюся иерархию, напомнить нам, что среди «мышьей беготни» пролетающих дней мы забыли о единственно важной очередности вещей и явлений.
Не имея ни амбиций, ни квалификации литературного критика, я хотел бы не столько написать о «Бумажном перстне», сколько набросать вокруг этой книги — с благодарностью — фрагменты мыслей и воспоминаний, вызванных Хауптом.
Отец, уставший от постоянных новых планов, идей и выходок своих семерых детей, говорил нам за год до смерти: «Ладно, ладно, но с меня уже хватит сюрпризов».
С возрастом мы перестаем верить, что нам все еще уготованы неожиданности. Нам кажется, что мы (для себя) уже точно знаем, что хорошо, что плохо, а остальное нас не касается, нет больше сил заново рождаться и умирать.
…ja ustała woskresat’ i umirat’ i żit’… —
пишет Ахматова в одном из своих последних стихотворений. А ведь подлинное переживание — это всегда неожиданность, встреча с невероятным, которое заставляет нас в чем-то начать с начала. Этими моментами мы живем.
Сезанн, говоря, что художник должен видеть природу так, «словно никто до него ее не видел», был уже стар и близок к смерти. Каждый его выход на пленэр, каждый написанный им натюрморт были для него неожиданностью, озарением. За месяц до смерти он писал сыну:
Здесь, на берегу реки, мотивы множатся, одна и та же тема, увиденная под разным углом, многообразна и представляет огромный интерес (du plus puissant intérêt). Мне кажется, я мог бы работать над ними месяцами, не сходя с места, а только наклоняясь то вправо, то влево.
Когда мы оторваны от тех слоев восприятия, к которым всю жизнь стремимся (теряя их, мы только в теории знаем, что они существуют, потому что уходит чутье, память самого опыта), то кажется, что мы замурованы, и вкус к жизни пропадает. Если в работе, в жизни мы все время сталкиваемся с одним и тем же, то эта повторяемость становится невыносимой. И вдруг — озарение. Мы прикасаемся не к новым мирам в самих себе, мы знали о них и раньше, просто забыли к ним путь. Эти миры вновь открываются нам: не благодаря труду, желанию или усилию, хотя они необходимы, так как очищают, а благодаря толчку извне. Если говорить о литературе, то зачем же еще читать, если не ради таких переживаний?
* * *
Бреден [389], чудесный художник-график и рисовальщик, сын кожевенника из глубокой провинции, всю жизнь был беден и недооценен, жил на чердаке и там с китайской тщательностью и аккуратностью выращивал редкие комнатные растения — рисуя тропические заросли, кроны мощных деревьев, увешанные скелетами, фантастические таинственные кустарники. Бодлер сказал о нем: «Не знаю, есть ли у этого человека талант, но он точно гениален». А Бодлер был одним из редких представителей XIX века с внутренним «детектором» гениальности.
Художник, который, подобно Бредену, испытал необычайные переживания и ищет для них выражение, развивает свою мысль или образ, вынужден пережить какую-то «маленькую смерть», вынужден создавать свой язык форм, производящий впечатление неуклюжести. Бесталанность? Слабость? Как часто мы слышим возмущенное: «На что это