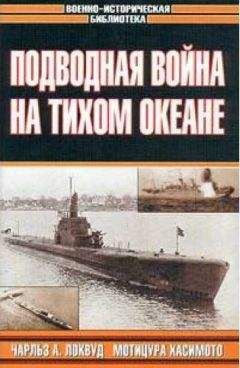И тут же: "По закрытым ранее данным (какой дурак им открыл их?), в Москве было полностью разрушено 574 жилых дома, 59 школ, 59 предприятий местной промышленности (союзная промышленность немцев не интересовала?), ликвидировано более 3000 крупных аварий". Заметьте: разрушено полностью! Но вот диво дивное: "Между тем, граждане не видели в столице крупных и массовых разрушений". Как же так? В чем дело? Оказывается, "перед войсками МПВО стояла задача ликвидировать пожары, восстановить разрушенное, и требовалось это сделать так, чтобы к утру — никаких следов!" Ну, известное дело, советская показуха... Дураков не сеют, не жнут... Ведь абсолютно не соображают, что лепечут! Можно к утру, допустим, засыпать, даже заасфальтировать воронки от бомб или убрать следы нескольких сгоревших домиков. Но как восстановить или ликвидировать развалины многих полностью разбомбленных промышленных предприятий хотя бы и местного значения, чтобы утром никто ничего не заметил? Разве утром жители этой улицы не спросят: "А куда же девался домик? Такой симпатичный был..." Разве сотрудники названных предприятий не удивятся: "Где же нам теперь работать?.." Пожалуй, так и было бы, если данные о немецких налетах были бы здесь приукрашены. И вполне понятно, почему газета не указала конкретно ни одно разрушенное предприятие и только одну школу из 59-ти. А ведь еще сказано, что сотни, тысячи домов, школ, предприятий "повреждено". Как им родную столицу-то не жалко...
Да, разрушения были, и под бомбежками погибли около двух тысяч человек. Но, во-первых, всё это москвичи видели и знали, хотя, разумеется, как во всяком уважающем себя городе, следы бомбежек старались ликвидировать побыстрей. (Можно себе представить, что творилось бы ныне!..) А во-вторых, эти разрушения не идут ни в какое, даже самое отдаленное сравнение с тем, что немецкая авиация сделала, например, 26 апреля 1937 года с испанским городком Герника, в котором из 7 тысяч жителей в этот день погибли 1600 человек; или с тем, что немцы в сентябре 1939 года учинили с Варшавой; или с тем, во что превратили в мае 1940 года Роттердам; или с тем, как они бомбили Англию и её столицу... Об этом для народного артиста Дурова и для газеты "Куранты", если она жива, полезно рассказать пообстоятельней. С августа 1940 года до июня 1941-го немецкая авиация сбросила на Лондон, на Англию около 60 тысяч тонн бомб, и около 45 тысяч человек были убиты, около 50 тысяч ранены. Чего стоит судьба одного лишь Ковентри. За два налёта — 15 ноября 1940 года и 8 апреля 1941-го — на него немцы обрушили 800 тонн фугасных и 1600 зажигательных бомб. Город был стерт с лица земли, а с ним вместе и 20 процентов всей авиационной промышленности Англии. И чего это премьер Черчилль не требовал к утру ликвидировать все последствия налётов...
Тяжело было и в 1944 году. Тогда немцы уже имели ракетные снаряды Фау-1. С 12 июня в течение недели они выпустили с побережья Франции по Лондону более 8 тысяч снарядов. Хотя и не все они достигли цели, но 6 тысяч человек были убиты и около 40 тысяч ранены. Потом соорудили пятнадцатиметровые Фау-2 весом в 13 тонн и дальностью полета до 500 километров при скорости 7 тысяч в час. 8 сентября уже с базы в Нидерландах метнули на Англию более тысячи ракет, в том числе — 600 на Лондон. Погибли около 10 тысяч англичан. А Москва не только в сентябре, но и в июне 1944 года была уже вне досягаемости фашистских ракет...
Можно добавить еще, что бомбежка Москвы, её разрушения не идут ни в какое сравнение и с тем, что англо-американская авиация, прежде всего ради нашего устрашения, в свою очередь сделала за три нелёта 13-14 февраля 1945 года с Дрезденом, где под бомбами погибли 135 тысяч жителей и разрушено 35,5 тысяч зданий; с Гамбургом, Лейпцигом, Кёльном; с тем, наконец, что союзники и мы сделали с Берлином...
Что же, Лев Дуров, вот так было и в Москве, в небе над которой немецкие самолёты гонялись за русскими? И как не совестно старому человеку перед Героем Советского Союза Виктором Талалихиным, ночью 7 августа сбившим тараном немецкий "Хейнкель", перед всеми, не щадившими своей жизни защитниками Москвы на земле и в воздухе...
ЭПИДЕМИЯ КОРОВЬЕГО БЕШЕНСТВА СРЕДИ БОЖЬИХ ОДУВАНЧИКОВ
А 6 мая, совсем уже близко к Дню Победы, кликнул и Сванидзе в свое "Зеркало" два драгоценных киносокровища — 93-летнюю Марину Ладынину, беспартийную большевичку с юных лет, и ею молодую подружку -— 86-летнюю Лидию Смирнову, члена КПСС с 1952 года. Обе — тоже народные артистки СССР, крупные лауреатки, особенно первая, — кажется, пятикратная. Позже, 5 июня с великим удивлением я прочитал в "Правде", что Ладынина "живет затворницей, ни в каких собраниях развратителей не участвует". Что, чулки вяжет, пасьянсы раскладывает?
По поводу того, что у Сванидзе говорила Смирнова в этой передаче, Александр Бобров задал загадку в "Советской России": "Выжила из ума, или всю жизнь была скрытым врагом с партбилетом?" Но, по-моему, ничего скрытого здесь давно уже нет — ни в состоянии усохшей черепной коробки, ни в чем другом усохшем. Стоит только вспомнить, как она, матушка, млела и ликовала на всю державу, любуясь походочкой нового президента. Знать, вспомнилась одуванчику чудесная блатная песенка дней её молодости:
Ах, если б видели вы Костину походочку!
Меня пленял в нем даже этот пустячок.
Когда он шел, его качало словно лодочку,
И даже этим он закидывал крючок...
Ах, как много дала бы Лидия Николаевна за то, чтобы сейчас трепыхаться на таком крючке молоденькой рыбкой, даже без медали сталинской лауреатки!.. Но из-за несбыточности мечты вспыхнув ненавистью к вскормившему её советскому строю, эта круглая умница воскликнула: "Я крепко дружила с Галичем, но не знала, сколько людей сидели в лагерях". Матушка, так ведь и друг сердешный Галич не знал! Он распевал свои забубенные песенки о лагерях, о заключенных, об ужасах войны, но сам-то не отсидел даже десяти суток в вытрезвителе, а войну видел только в кино. Человек всю жизнь сочинял сценарии и либретто для таких шедевров социалистического оптимизма, как оперетта "Вас вызывает Таймыр", и крепко дружил с такими, как вы, жаль моя. Впрочем, хорошо известно, что этот либреттист не один дружил с вами лично. Это, во-первых. А во-вторых, сколько же сидели в лагерях? А.Бобров разъяснил старушке: в два раза меньше, чем сидит сейчас, в дни цветущей демократии. Причем, не было тогда в лагерях и тюрьмах ни эпидемии туберкулеза, ни массового одичания. Вон недавно показали по телевидению шахматный турнир среди рецидивистов. Событие! А тогда культурная жизнь в лагерях била ключом. Солженицын рассказывает, что один заключенный, профессиональный пианист, потребовал от администрации лагеря доставить ему рояль. Я, говорит, не могу без музыки, и в приговоре не сказано, что надо лишить меня квалификации. И что ж вы думаете? Рояль был доставлен! А сам Александр Исаевич в лагерном спектакле "Горе от ума" играл Чацкого, сотрясал глухую тайгу бессмертным монологом:
Бегу. Не оглянусь. Иду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок.
Карету мне! Карету!..
Все медведи и волки разбегались в округе. А карета была ему нужна, чтобы вывезти из лагеря вороха написанных там полубессмертных шедевров.
ДВЕНАДЦАТЬ ЛАУРЕАТОВ ПОД ОДНИМ ОДЕЯЛОМ
Перед тем как начала вещать бабушка Марина, Сванидзе объявил: "Внимание! Она сейчас всех огорошит". И что же мы услышали? Долго и невнятно Божий одуванчик лепетала о страшной участи какого-то Аркадия, своего друга, который где-то кому-то прочитал какие-то невнятные стихи, и ему за это — аж 22 года лагерей. Его ли собственные стихи — неизвестно. Но посудите, какая дикая несправедливость: Мандельштаму за убогую эпиграммку на самого Сталина дали только три года ссылки в университетский город Воронеж, а тут — за чьи-то стихии в семь раз больше, да не ссылки — лагерей у черта на куличках. "А в ту страшную сталинскую эпоху заключенным и ссыльным переписка была запрещена", — уверенно промурлыкала старушка... Ах, болезная, вот был такой двухголовый мыслитель, одна голова которого под русским именем Андрей Синявский публиковала правоверные статьи в советской прессе, а другая под еврейским именем Абрам Терц — антисоветские статьи в заграничной, в антисоветской. Так он, сидя за лицемерие в лагере, не только вел живейшую переписку, но и накатал три книги. А Солженицын-то, лагерная переписка которого еще не вся опубликована, при его усидчивости да трудолюбии приволок из лагеря целое собрание сочинений, в том числе несколько драм в стихах и поэм, от которых Твардовский падал в обморок, а очнувшись, говорил своему молодому любознательному другу Лакшину: "Владимир Яковлевич, голубчик, вам это читать не полезно"... Впрочем, тут же забыв о запрете переписки для заключенных, Марина Алексеевна принялась жаловаться, как все 22 года дрожала она из-за писем друга Аркадия, которые скопились у нее в таком изрядном количестве, что уже не помещались в бюстгальтере, в котором тогда и без этого было тесно... Как подумаешь, экая чувствительность! А вот мой отец был в молодости царским офицером, что, по уверению того же Солженицына, считалось при Сталине опаснее, чем иностранный шпион. И что же? У нас в семье не только хранился его эмалированный синий значок об окончании Алексеевского юнкерского училища, но и портрет отца в офицерской форме висел на стене, как висит и сейчас; больше того, долгие годы мы хранили даже его офицерский браунинг... Однако каким же образом молодая Марина получала письма от молодого друга? Оказывается, говорит, их доставляли освобождавшиеся товарищи Аркадия по заключению. Опять память подвела! Ведь до этого она божилась, что оттуда никто не возвращался...