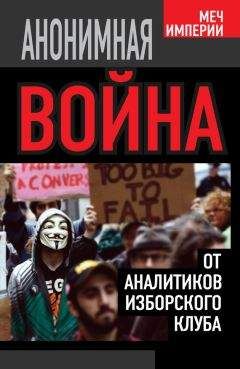Рассказывая об "ужасах коллективизации" и падении производительности труда отечественного крестьянства (что на фоне растущей механизации и широкого внедрения новых методов аграрного производства вряд ли соответствует действительности), автор всё же оговаривается, что "рассматривать государственную политику Сталина как сплошное "крестьяноборство" совершенно неверно". Описывая "пустые трудодни", работу в колхозе "за палочку", Олег Платонов буквально через сто страниц своей книги признает (когда характеризует военную экономику Советского Союза): "Была укреплена трудовая дисциплина в колхозах, в частности увеличен минимум трудодней, вырабатываемых колхозниками
Конечно, такая концентрация материальных ресурсов на нужды обороны привела к резкому падению и без того невысокого уровня жизни русского народа. Однако в условиях всенародной борьбы с жестоким врагом такое снижение было принято с пониманием и без ропота. Каждый русский человек понимал, что речь идет о самом существовании России, и поэтому чувствовал себя мобилизованным на войну, даже если и не был военнослужащим". Остаётся только признать, что в 20-е-30-е годы такого "всеобщего понимания" и признания сталинской политики в советском обществе еще не было - и всё встанет на свои места.
Алексей Татаринов
21 ноября 2013 0
Культура Общество
О современных задачах литературной критики
Бывает так. Открываешь современный отечественный роман. Читаешь о том, что Россия - с её историей, религией, государством - безнадёжность, способная удивить поистине художественной жестокостью. Такова картина мира у М.Гиголашвили в "Захвате Московии", В.Лидского в "Русском садизме", А.Иличевского в "Орфиках", А.Потёмкина в "Русском пациенте". Я назвал только талантливые романы, в которых реализована авторская вера, превышающая значение любой литературной игры.
Берёшь иные тексты: например, "Загул" О.Зайончковского, "Плясать до смерти" В.Попова, "Москва, я не люблю тебя" С.Минаева, "Комьюнити" А.Иванова или "ИКС" Д.Быкова. И видишь: унижен сам человек, не поднимающийся над пылью, вдавленный в неё логикой авторского замысла.
Литературный критик имеет право на восстание против отдельного мироздания художественного произведения, когда видит в нём действующий через автора противочеловеческий хаос или - наоборот - сознательное моделирование писателем какой-нибудь низости, иногда обладающей вполне рациональным характером. Тогда надо бить - смело и бескомпромиссно, всегда показывая, за что.
Но сейчас встречается другая ситуация, связанная не с энергией, а с вялостью новейшей словесности, с разливающейся по критическим страницам интуицией, что никому ничего не надо и не надо будет уже никогда, литературу любить не стоит, да и не за что. Подобное настроение - не редкость даже у лучших: у Л.Пирогова, К.Анкудинова, Р.Сенчина, когда он высказывается как читатель.
Те, кто постарше, говорят: вокруг сплошной постмодернизм, угас свет русского слова или горит там, где писатель никогда не найдёт издателя. Думаю, критик не должен сетовать на кризис литературы, поддаваясь и проигрывая кризису. Страшнее постмодернизма вера в его тотальность, в необратимый характер его мировоззренческих, а не только литературных побед.
Лучше вообще забыть об этом магическом слове, чем погружать литературный процесс в депрессию, сообщая, что остались только вульгарные имитаторы, завладевшие инициативой, купившие её разными риторическими услугами.
Критик не должен долго говорить о кризисе, ведь у него всегда есть материал - текст как состоявшаяся реальность, пусть как-то состоявшаяся. Извлекай смысл, радуясь или негодуя!
Постмодерна вообще мало осталось, атаки на него перестали быть продуктивными. Есть прочувствованные и продуманные авторские модели мира, агрессивно участвующие в создании идеологии словесности нашего времени. "Трилогия" и "День опричника" В.Сорокина, романы В.Пелевина - жесточайший модерн, не играющий пустыми словами, а претендующий на завоевание всего человека, на доверие его целостного сознания. М.Елизаров и А.Иличевский, А.Проханов и В.Шаров, П.Крусанов, М.Шишкин и Ю.Мамлеев говорят с нами на языке своих персональных идеологий, личных идейно-эстетических утопий, которые они - правда, с разной силой атаки - хотят сделать нашей участью.
Борьба классического и неканонического, национального и безликого не может быть неважной. Но стоит заметить и других два литературных потока, которые находятся в сложном взаимодействии. Патриоты, например, есть в каждом из них. Схематично выраженная идея первого: жизнь вместо судьбы. Здесь А.Рубанов, Д.Гуцко, Р.Сенчин, И.Савельев, С.Шаргунов, Д.Чёрный, А.Ганиева. Идея второго: судьба вместо жизни. Здесь Е.Водолазкин, М.Кантор, А.Проханов, Б.Акунин, Д.Быков, В.Попов, В.Мединский, Ю.Козлов.
Дело не в терминах, но первый поток часто называют "новым реализмом". Он заявил о себе борьбой с постмодернизмом, со всеми пелевиными и павичами, которые погружают читателя в иронию и элитарные игры со словом, не проявляя никакого интереса к реальной жизни. В нём несогласие с унынием, с вселенским нытьём, лишающим солнца и веры в возможность счастья. Экспериментам - идейным и лингвистическим - "новый реализм" противопоставил лихой автобиографизм, упоение молодостью, страстно переживаемым настоящим. Даже минорная, пустынная обыденность, регулярно воссоздаваемая Р.Сенчиным и порою дотягивающаяся до продуманной идеи существования, не способна затмить основной принцип "нового реализма": жизнь вместо судьбы, ты - живой - вместо идеи.
Второй поток - наш "новый модернизм": многословная, экспрессивная повседневность человека, выходящего в мир, похожий на настоящий, здесь мало кого интересует. Давление авторской идеи сжимает реальность до энергичного знака и превращает произведение в сюжетное становление романа-монолога. На смену автобиографическому слову и яркой обыденности молодого человека приходит идеологическая риторика, ищущая эффектные формулы для символизации человеческого пути. Судьба вместо жизни, идея всегда интереснее вялотекущей повседневности - такой принцип "нового модерна".
Соединение жизни и судьбы, повседневности и идеи, допустимого автобиографизма и философской высоты способно создать текст всероссийского, не только литературного масштаба. Попытки, конечно, есть. Назову - из разных лагерей: сборник повестей З.Прилепина "Восьмёрка", роман М.Шишкина "Письмовник", роман П.Краснова "Заполье", роман Л.Улицкой "Зеленый шатер", роман В.Галактионовой "Спящие от печали", роман С.Шаргунова "1993".
Современные писатели часто сотрудничают с популярной серией "Жизнь замечательных людей", выступают биографами давно известных героев. Герой нужен в сочетании значимого существования и состоявшейся судьбы, поднимающей над прекрасными мелочами. Из вышедших в этом году книг мне интереснее всего было писать о "Лермонтове" В.Бондаренко и "Льве против святого" П.Басинского. Вроде бы non-fiction, но какие сюжеты, герои и идеи! Какое пространство мысли, соединяющее биографию и становление идеи!
Часто слово о Сталине появляется в романах А.Проханова. И здесь важна не историческая фигура с грузом непридуманных проблем, а мифологизированный лидер IV Империи - вождь евразийского народа на этапе советского созидания, который выиграл Отечественную войну, и ещё вернётся, чтобы остановить разложение, соединить коммунизм и православие, продолжить завоевание космоса и освобождение земного мира, погрязшего в сетях, расставленных Антихристом. Не возвращается ли в этой религиозно-социальной реконструкции Дон Кихот? Возможно, А.Проханов ответил бы на этот вопрос утвердительно. Прохановский рыцарь Сталин точно против Гамлета, если видеть в образе принца разрастающееся сомнение.
В русской литературе архетип Сталина обязательно объединится с иным архетипом. Это будет Сталин - Христос и Дон Кихот, как у Проханова. Сталин - Фауст и Ницше, как у Лимонова и Потёмкина. Или Сталин - Гамлет, как, например, в текстах Елизарова или Иличевского. Или Сталин - Отец, способный избавить от Черной обезьяны. Так, думаю, у Прилепина.
Для западной традиции подобные речи перестали иметь значение, о них - особенно о религиозном сознании - говорить неприлично. Назову лишь несколько значимых для Запада сильных писателей-интеллектуалов: Кундера, Макьюэн, Барнс, Эмис, Каннингем, Франзен, Уэльбек, Киньяр. В центре их романов - психологически разветвлённый мир постепенно стареющего человека, который подводит итоги своего земного существования, зная, что скоро умрёт полностью, насовсем. Можно сказать, что для западного писателя картина мира ясна, она едина: Бог - отсутствие, ад - фикция, смерть поставит окончательную точку. Русский писатель в границах этих вопросов значительно больше нервничает и дёргается, находясь в состоянии, которое принято называть онтологической неуверенностью.