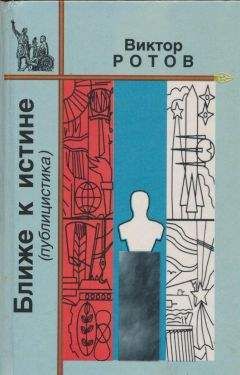Павел наивно недоумевал:
— И чего воюют?..
— А как же! — отозвался за всех очкарик из деловых. — Возле деревянной перегородки теплее. И потом — бабий дух волнует! Сейчас начнут дырки резать в досках, общаться. А может, вообще снесут перегородку. Во будет шухеру! Похотливый зек — страшный зек. А бабы — и того пуще. Эти еще страшнее, когда засвербит между ног. Рассказывают бывалые, в Тайшетлаге бабы изловили рослого сержанта из охраны и три года «эксплуатировали», пряча в погребе под бараком.
— Как это? — не поверил Павел.
— А так. Тайком вырыли под бараком подвал. Землю, говорят, выносили с зоны в трусах и бюстгальтерах. Оборудовали «хату» по всем правилам — кровать, разные там удобства. Жратвы туда всякой добыли. Откормили сержанта и вообще питали его хорошо, и по очереди к нему «на прием». И так три года! И никто ни мур — мур, шито-крыто. И если б бабы не перессорились между собой, и одна из них не ляпнула бы на поверке, то и по сей день того сержанта искали бы наши доблестные органы. Говорят, когда его освободили из этого «плена», он сильно расстроился: зачем? — очкарик гоготнул звонко. — Еще бы! Тёлок целое стадо. И каждый день новая…
Посмеялись. Павел с Артемом многозначительно переглянулись через плечо. Артем даже вздохнул завистливо. Зажмурился, вспоминая, видно, нечто из своей жизни. Посетовал на судьбу: «Эх, жизнь наша — ржаная каша!..» И поведал вполголоса:
— Была у меня одна. Массажистка! Даже на сборы со мной ездила. Крепенькая такая! Бывало, как пойманная рыба, не удержать в руках. Одно слово — массаж! А перед рингом, за три дня до выступления, — ни — ни. И близко не подпускала. Только перед самым выходом на ринг приходила в одном халатике на голое тело. Распахнется передо мной, даст себя потрогать, поцеловать и… Все! Ух, я потом работал на ринге!..
На ужин дали треску с перловкой. В честь отплытия, что ли? Объедение! На третье был компот из сухофрук
тов. В нем, смеялись политические, конвой ноги вымыл. И правда, это было препаскуднейшее питье!..
Кажется, отправились. Дробно грохотнула якорная цепь, раскатисто гукнул пароход.
Уголовники, кажется, угомонились. При свечах и плошках режутся в карты, в двадцать одно. Марухи из‑за перегородки дрочат их сальными репликами. Урки гогочут и не скупятся на ответные афоризмы. Тоже с картинками.
Павел долго примерялся, как ему лучше сесть. Наконец уселся. Стал подремывать и незаметно уснул. Ему приснилась голая степь, а над степью тучи птиц. И такой птичий грай стоит, что в ушах щекотно. Открыл глаза, а в трюме что‑то невообразимое. Светло от множества свеч и плошек, остро пахнет спиртным и тройным одеколоном. В воздухе качаются облака табачного дыма. И крики, женский визг, яростная матерщина и, что самое интересное, — нет перегородки. А в темный квадрат трюмного люка заглядывает полная луна. Чудеса да и только!
Деловой очкарик, блестя стеклами очков в сторону свалки на месте бывшей перегородки, заметив, что Павел проснулся, недоуменно прокричал ему: «И где что взяли?! Папиросы, водка, свечи!..»
Все деловые и репатриированные стояли почему‑то на коленях и всматривались поверх голов впередистоящих туда, где была куча мала.
— Что происходит?! — Павел хотел встать на ноги, но его осадили задние — на колени, а то не видно за тобой…
Артем повернулся к нему.
— Гля! Урки охренели. Перегородку сломали и гуляют. А затеяли бабы. Какая‑то Машка Семенова бузатёрит. Теперь пошли на палубу конвой разоружать. Отчаюга!..
— Не радуйся особенно, — повернулся к Артему бритоголовый с козлиной бородкой. — За этот их бунт всем нам намотают еще лет по пять.
— Эт точно! — подтвердил очкарик. — Надо бы остановить, урезонить…
— Надо бы, но как?
— А вот так, — поднялся с колен бритоголовый. — Кто со мной?
— Я пойду, — отозвался мужик борцовского вида.
— И я!
— И я!..
Набралось человек семь. Держась друг за друга, они двинулись к сходням трюма. Теперь только Павел заметил, что корабль сильно болтает. Видно, шторм.
Артем покопался в своих шмотках, что‑то вынул оттуда, сунул в карман брезентухи и ринулся следом за мужиками, решившими урезонить бунтующих.
Что там было наверху, Павел не ведал, а потому жадно прислушивался к тому, о чем гомонили здесь, в трюме. По сходням — почти непрерывный поток людей туда и обратно. А здесь крики, суета, беготня. В трюме стало заметно свободнее. Было такое впечатление, что часть зеков поднялась на палубу. Как? Почему? Ведь за нарушение режима!.. Корабль сильно качнуло. В дальнем углу повалился импровизированный стол, на котором стояли бутылки, горела свеча, а вокруг толпились болельщики картежников. Тут и там мелькали женские головы. У некоторых прически, сияющие радостно глаза. Недалеко от Павла, в затемненном уголке между шпангоутом и корпусом, урка в тельняшке по кличке Полосатый тискал маруху. Она пьяно висла на нем. В разноголосом звенящем гомоне почему‑то четко выделялись ее слезные причитания: «Милый, я твоя! Я вся твоя. Бери меня, милый, покрепче. Ах, как хорошо!..»
Павел отвел глаза. Дальше в темень трюма. И там зажималась пара. У них уже наладился процесс: она повисла на нем, обхватив его бедра голыми ногами. Белые ляжки ее обжигали взгляд. Павел даже зажмурился. Глянул вправо. Там то же. Стараясь прикрыть ее собой, мужик приспособился сзади. Она уперлась руками в пойол.
В квадрате люка светлело, отчего свет плошек и свечей становился все призрачнее.
Из женской половины трюма надвигалась пьяная растрепанная баба. Она всматривалась в лица мужиков, будто искала знакомого. Издали глянула на Павла и вдруг пошла на него, грубо распихивая попавшихся на ее пути. Приблизилась, уставилась, доставая его винным перегаром.
— Ты, — сказала она хрипло, — иди за мной!
Павел огляделся на ближних. Чего она? Че ей надо?
— Иди, иди, — подталкивая его, сказал коренастенький с плешиной на голове. — Женщина просит… — и хихикнул ядовито.
— А ты, гнида, — замахнулась на него растрепанная баба. — Сгинь, или я те пасть порву… Ну! — повернулась к Павлу.
— Чего — ну? — вскинул удивленно брови Павел. — Успокойся, — и он сел возле своих шмоток.
Она рванулась к нему. Ее кто‑то остановил, схватив под руку. Она вырвалась резким движением. Но мужик снова перехватил ее. И выдвинулся из темного угла. Косматый, грязный и грозный, как туча.
— Слушай ты, лярва! Падаль вонючая. Ты кочергой сначала поскребись там, а потом сюда приходи. Так уж и быть, я те сделаю…
— Так! — подбоченилась вызывающе баба, и в свете ближней плошки Павел рассмотрел ее лицо: крупные мясистые черты, обрамленные распущенными волосами смоляного цвета. Яркие полные губы и сверкающие темнотой южной ночи глаза. Она вроде оторопела на миг при виде тучного мужика. Вроде даже протрезвела. — Выйди, выйди больше на свет, — сказала ему.
— Ну, — вышагнул мужик целиком на свет.
Баба несколько мгновений гипнотизировала его.
— Ты где был, Мичиган? Тебя Машка искала. Видишь, бузу подняла? Чи не видишь?
— Вижу и не одобряю. Тут вот бывалые люди подсказывают: за эту вашу бузу всем накинут лет по пять.
— А ты испугался? — вперилась баба на Мичигана.
Вдруг все панически смолкли. Повернули головы к сходням. В светлом квадрате трюмного люка появилась женская фигура. Статная, в брюках. Увидев ее, растрепанная баба закричала:
— Мария! Я Мичигана нашла! Канай сюда!..
Фигура в брюках заторопилась по сходням, на время
исчезла в подвижной лохматой толпе зеков, и вдруг очутилась возле них. Вошла в круг, расстегивая на себе кожаную куртку, сверля глазами Мичигана.
Бандурша оказалась недурна собой — удлиненное лицо, припухлые, накрашенные ярко губы. Длинные ресницы и жгуче — черные брови дугой. Во взбитых коротких волосах пробивается седина. А в глазах что‑то волчье. Они и цвета были неопределенного: серовато — зеленовато — коричневатые. Под кожаной курткой — красная шерстяная кофта. Под носом редкие черные усики. На бороде слева — большая темная родинка с длинной, словно удилище, волосинкой.
Из бокового кармана она вынула пистолет. Поигрывая
им, победно оглядела всех внимательно. Остановила взгляд на Мичигане. Тот демонстративно сел на пол, скрестил под собой ноги.
— Ты чего? — резким голосом спросила она его.
— Ничего. А што?
— Скользит, падло! — взвыла истошно растрепанная баба.
Машка повелительно кивнула головой, и дюжина подонков набросилась на Мичигана. Он резко поднялся на ноги, и наседавшие на него разлетелись в разные стороны. Машка подняла пистолет и равнодушно выстрелила в Мичигана. Тот рухнул мешком. Машка махнула дулом пистолета.