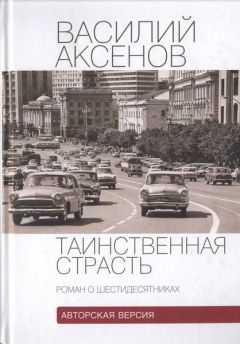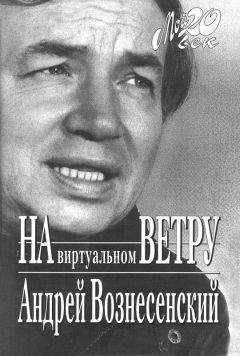«Кто изобрел слово «зрелость»? Кому первому пришло, в голову выдавать бумажки о зрелости наивным ребятам после школы? Как будто можно бумажкой в один день перевернуть жизнь! — так потрясенно начинал свои записки герой «Продолжения легенды». — Зачем было обманывать и готовить нас к легкой жизни?..» Книги врали! Учителя врали! Они утаили что-то главное!.. Не надо верить словам! Не надо красивых слов!.. — лейтмотивом пошло от Анатолия Кузнецова, чтобы завершиться через три года обстоятельным аксеновским монологом: «Ух, как мне все это надоело! Вся эта трепология, все эти высокие словеса» и т. д.
У.кузнецовского героя оказалось много литературных собратьев. Я.имею в виду не только гладилинского Виктора Подгурского (который появился на свет даже чуть раньше кузнецовского мальчика), не только многоречивых молодых людей из повестей Аксенова или Московкина. Как ни странно, мятущиеся эти юнцы были родными братьями ультрамолчаливых героев В. Конецкого и Юл. Семенова, этих морских волков и таежных бирюков, делающих свое дело в яростном безмолвии. Критика очень недолго противопоставляла прозу молчаливых возбужденной исповедальной повести: слишком скоро стало ясно, что это ветви одного дерева. В потоке споров, афоризмов, каламбуров и излияний, в непрерывном диспуте, составлявшем суть исповедальных повестей, своеобразно преломилось все то же стремление испытать слова на прочность, отделить реальное от нереального, жизнь от тумана — ядро от шелухи. Герои Юлиана Семенова демонстративно молчали на ту самую тему, на какую герои Аксенова не переставали говорить. Любопытно, что, как только молчаливые открывали рот, они разражались тирадами вполне в духе мятущихся, а мятущиеся, в свою очередь, умолкая, принимались делать дело с такой свирепой молчаливостью, что им позавидовали бы молчаливые. Слово противостояло делу. Дело было превыше всего. Дело искали какое-нибудь простое, ощутимое, на ощупь подлинное… Как тот состав с камнями и досками, символический работяга-товарняк, который в 1961 году прогромыхал по последней странице опубликованной все в той же «Юности» повести Элигия Ставского «Все только начинается…». При своем появлении эта повесть, теперь уже совершенно забытая, вызвала интерес, я думаю, именно потому, что она сконцентрировала с очевидностью почти курьезной типичные черты тогдашней юношеской прозы, обнажив корни и загадочного молчания последователей кузнецовского Толика, и их лихорадочных диспутов.
Прежде всего Ставский объявил, что и он отрицает «словеса». «Мы будем трепаться?.. Нет, мы будем работать» — так решали его герои в конце каждого очередного диспута о смысле жизни. «Я не люблю, когда надо умничать, — говорила девушка, которую они все любили. — Мне нравится, что ты такой простой».
Простота у Ставского кричала, требуя к себе внимания. Картины были раздроблены на простейшие элементы, ощутимые по отдельности. «По парку бегали дети… Подойдет автобус, и я уеду. В жизни нет ничего сложного и запутанного. Все очень просто…» Паузы. Односложность ремарок. Спросил. Ответил. Промолчал. Последнее было самым сильным средством. Прерывая диалоги, герои мужественно пожевывали сигареты. Их молчание завораживало, как новое платье короля; я в одной из тогдашних статей попытался даже подвести под молчание базу, увидеть некую «надежность» в грозной простоте героев Ставского. Голос андерсеновского ребенка прозвучал в одной из статей И. Золотусского: полно, да им не о чем молчать! Это было хорошо сказано: хемингуэевский пиджак, который примерил себе герой Ставского, накрыл его с головой. Герой был выдуман вместе со своей простотой, он кидался от Хемингуэя к Ремарку и обратно, потому что не ощущал внутри себя никакой опоры, потому что ему страшно было стать самим собой. Смутно подозревая это, он пытался молчать, пытался говорить… И то и другое до поры до времени сходило не только за правду, — чуть не за новое слово в литературе.
Появились «Коллеги».
Василий Аксенов вошел в литературу шумно. Бурный успех «Коллег» был закономерен: в них привлекала не только острота и яркость — в них привлекала стройность и последовательность, своя логика, свое единство, своя внутренняя завершенность. Повесть строилась, как открытый диспут. Диспут разворачивался от темы к теме, перекидывался от героя к герою, блистал остроумием, каламбурами, шутками. Романтика и повседневность, мировая скорбь и оптимизм, постимпрессионисты и Пикассо — все, о чем спорили студенты того времени, щедро выплеснулось в повесть. Уже одно то, что Аксенов так отважно ввел в литературу этот мир мыслей студенчества, мир песен и капустников, споров в общежитиях и в аудиториях, всю живую стихию университетов и вузов пятидесятых годов, — могло бы поставить его в центр внимания. К тому же многословный диспут был в повести един, он развивался, словно большой внутренний монолог автора, откровенно раздавшего Леше Максимову, Владику Карпову и Саше Зеленину не только черты своего характера, но и этапы биографии (после окончания института В. Аксенов сначала работал врачом в порту, как Максимов и Карпов, потом — сельским врачом, как Зеленин).
Что теперь кажется мне существенным — «Коллеги» рационалистичны от головы до пят. Образы в повести построены по дедуктивному принципу: не от фактов к характерам, а наоборот: от заданной позиции в диспуте, от маски, от типажа к подтверждающим фактам биографий. Внешний облик трех товарищей — лишь простейший литературный эквивалент их позиции в диспуте: романтик Зеленин — бледность, худоба, очки; скептик Максимов — лицо усталого боксера; жизнелюб Карпов — галстук, чубчик. Три друга — по сути своей — три ипостаси одного божества, а не три самостоятельные личности. И в том, что Максимов излечился от скептицизма, а Зеленин укрепился в своем романтическом отношении к жизни, был лишь тот реальный смысл, что сам автор решил отказаться от своих тайных сомнений. Диспут увенчала благородная мысль о «цепочке»; осознанной трудовой связи всех людей на земле. Эта мысль завершила здание повести, построенной как бы в виде пирамиды: от публицистической вершины идут к жизненному материалу последовательные перепады — три друга, как три грани этой вершины, затем — мир единомышленников, спутников, затем — еще ниже — мир оппонентов и, наконец, основание пирамиды, мир реальных трудностей, обстоятельств, путаница жизни. Триединый герой окрашивает сверху своим воображением все, что может. Единомышленники и оппоненты с первых строк втягиваются в непрерывный, озорной словесный турнир. «Идите, сынки, идите», — хихикает в порту боец охраны и вдруг отпускает шуточку вполне в духе общежитейских парадоксов Максимова: «Протрясетесь как следует, аппетит будет отменный, правда, жрать-то там нечего…» Персонажи второго, третьего плана важны автору в той мере, в какой они участвуют в диспуте; все, что не относится к диспуту, всякие там портреты-костюмы даны откровенно трафаретной скорописью:
«стройная девушка в синем свитере» (фигура, потом одежда), «высокий молодой человек в синей тужурке», «высокий сухой старик в морском кителе» и т. п. Как крайнее воплощение отрицательности появляется в повести бандит Бугров, существо омерзительное, темное, не поддающееся разумным меркам. Автор все же пытается объяснить Бугрова рационально. Бугров, знаете, сирота. Бабка у него — «известная травница, богатющая ведьма». Объяснив себе бандита таким способом, автор успокаивается, не отрицая при этом, разумеется, и принципиальной возможности Федькиного перевоспитания — помещенная рядом с ним фигура перековывающегося вора Ибрагима обозначает эту оптимистическую возможность.
К вопросу о метафизике. Все, что не поддается объяснению с этих светлых позиций, все, что не укладывается в максимовские «крестики и нолики», весь неразумный и злокозненный хаос, как правило, оборачивается в исповедальной прозе бесхитростным метафизическим злом. Таким метафизическим злом был утонченный городской стиляга у Кузнецова; обывательница-тетка у Ставского; деревенский бандит у Аксенова…
Впрочем, и с ним в конце концов справились. Следя за сугубо динамическими событиями финала (погоня, схватка, убийство Саши и его воскресение на операционном столе, приезд друзей и счастливый конец), мы конечно же простили Аксенову этот легкий налет литературщины — заряд романтизма был слишком силен и прекрасен, — естественно, что кое-где лирический герой дорисовал события своим воображением. И может быть, только любовь (даже восторженные рецензенты остались недовольны любовными конфликтами «Коллег», и они были правы) — любовь намекала на непрочность найденной стройной системы: тесновато было любви в прямых, хорошо освещенных коридорах конструктивного здания аксеновской прозы.
«Коллеги» были последним достижением в жанре исповедальной повести. После «Коллег» жанр резко пошел на убыль. Аксенов довел до блеска, до крайней ясности, до предела образную систему, в которой осознавали себя многоречивые юнцы пятидесятых годов, он непроизвольно обнажил и всю несложную механику этой системы, ее рассудочность и призрачность. И дело было не только в образной системе, конечно. Дело было в действительных качествах того реального героя, который стоял за плечами Аксенова и двигал его пером. Это был тот самый, тридцатых годов рождения гражданин, который за недолгие свои предвоенные годы успел выучить песни гражданской войны и революционной Испании, затем проводил на фронт своих старших братьев, смертельно им завидуя, а сам был отправлен «в другую сторону», за Уральский хребет, чем во многом и определилась вся его дальнейшая жизненная и духовная судьба. Война не обожгла его фронтом, она не прокалила его оккупацией, не иссушила блокадным голодом и не поставила к станку под открытым небом. В то время как его старшие братья и сверстники стремительно взрослели в окопах, в партизанских лесах, в развалинах, он вырастал, спасенный, и вынашивал в сердце свою спасенную наивность. Все тем же довоенным лобастым мальчиком Павла Когана, все тем же рационалистом и романтиком вступил он в сложные пятидесятые годы, в годы своего возмужания, в годы, которые вынудили наконец и его выработать свое собственное отношение к жизни. Он находил себя трудно. Жизнь не укладывалась в его стройные концепции, а он не умел из них выпрыгнуть.