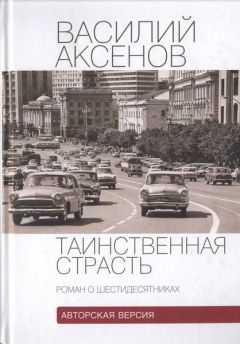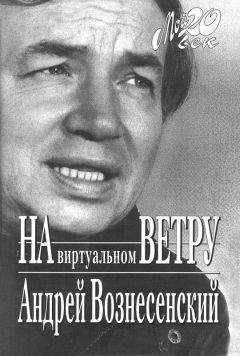В чем тут фальшь?
В профанировании личности.
Личность — это момент неделимого единства твоего и общего. Момент неделимости здесь — главное. В механическом разграничении общественного и индивидуального заключена опасность упустить и то и другое: общественное не может всерьез строиться на внеличном, на растворении и подчинении личности, но уж и личность, отделенная от общественного, лишь имитирует жизнь. Не отделенность от общего суть индивидуального, а неделимость: «ин-дивидо», — говорили древние, — неделимое. Личность, внутренне единая и прочная, возникает на скрещении общественных связей как мера их человеческой цели — и как естественная им проверка. Используя старый термин Планка, можно назвать личность квантом исторического потока:
квант неделим, но он существует лишь в потоке, световой же поток состоит только из квантов.
Кузнецовский Толик ужасался тому, что он еще не личность. Аксеновский Димка страшно горд, что он уже личность. Первый отразил чистую и наивную пору первопрозрения героя. Второй— пору, когда наивность стала приемом. Первый неожиданно натолкнулся на правду. Второй попытался слукавить, зная правду.
Мы видим, что Димка, этот новоиспеченный моряк, гордится своей робой, бородой и дырками на джинсах. Ему ужасно нравится, что он теперь такой просоленный. Но это все маскарад:
нам ясно, что рыбаком юный Денисов не останется, а мозоли у него будут чем-то вроде положительного пункта в анкете. За этим пунктиком остается, однако, некоторый духовный вакуум, который нам нечем заполнить. Да, мы знаем, что Димка не хочет походить на тех холеных бодрячков, которые фальшиво поют громкие песни, — он любит, когда поют тихими и мужественными голосами. «Не надо литавр, хватит с нас и гитары», — заявляет он в результате своего титанического бунта. Так, понятно, Димка хочет петь по-другому,
Но что он будет петь по-другому?
«Узнаю когда-нибудь», — ухмыляется титан духа. «Я до сих пор не выработал себе жизненной программы», — уходит он от ответа. «Что же я значу?» — проникновенно признается он себе.
…Вот так же ухмыляясь, иронизировали, уходили от ответа старшие аксеновские герои, трое молодых врачей из «Коллег». А потом, в конце повести, простодушный Саша Зеленин взял да и заполнил духовный вакуум: от имени всех троих изложил «жизненную программу» — какой же умозрительно-тощей, какой насквозь литературной она оказалась! Мы, заявил Саша, «городские парни, настроенные чуть (!) иронически ко всему на свете (!!), любители джаза, спорта, модного тряпья». Тем не менее мы… далее шла высокопарная цитата, где парни обещали «выдержать», когда их будут проверять на прочность: щипцами протаскивать сквозь огонь, бить кувалдой по головам и совать раскаленных (?!) в холодную воду. Ради чего им так хотелось в огонь, в воду и под кувалду, парни не уточняли, да и не принято уточнять такого рода обещания: эти литературные красоты затем и сочиняются, чтобы не углубляться в суть дела. И довольно часто сочиняются. Настолько часто, что мы, пожалуй, и не отличили бы иронических парней Аксенова от сотен бесплотных литературных персон, которые многажды до них и после них декларировали так же красно, — если бы, конечно, не спасительные реалии: незабвенный джаз, незабвенный спорт и незабвенное модное тряпье.
Одна из таких реалий, помнится, доставила особенно много хлопот критикам — жаргон. Шума вокруг аксеновского жаргона было столько, что К. И. Чуковский написал о нем миниатюрный лингвистический трактат под названием «Нечто о «лабуде». Долго обсуждали тогда проблему лабуды, долго и глубокомысленно. Включившись в обсуждение, сам Аксенов на одном из литературных диспутов сообщил участникам, что раскованный язык современного юноши является, по его мнению, реакцией на парадный стиль, коим изъяснялись в книгах периода культа личности герои руководители. Спасительный аргумент! Мне вспоминается, что чаще в книгах периода культа личности бывало другое: руководители изъяснялись по-человечески, а вот рядовые труженики — в парадном штиле. Это последнее обстоятельство кажется мне настолько важным, что проблема лабуды меня как-то не волнует. Хотя, известное дело, современные юноши, может, и грешат лабудой (особенно после прочтения Аксенова) и лабуда, так сказать, есть реалия нашего общего быта.
Реалии много значат в прозе. В известном смысле художественная литература как познание жизни в формах самой жизни вся сплошь состоит из реалий. Но чтобы частности, детали, аксессуары говорили о главном, должно быть это главное, должно быть ощущение личности. Тем более в периоды, когда обновление принимает столь явные и всеохватные формы, что главное легко спутать с частностью.
Я не ошибусь, наверное, если скажу, что в посвященной современности прозе второй половины пятидесятых годов не было ни одного сколько-нибудь заметного произведения, которое не фиксировало бы с большей или меньшей точностью приметы нового. Причем приметы куда более существенные, чем моды и вкусы. Все зависело от того, в какой степени эти приметы становились приметами действительного духовного и нравственного обновления.
Я процитирую отрывок из повести, отмеченной великолепным чутьем к приметам времени, рядом с которым аксеновские изыскания в области мод и вкусов кажутся сущими мелочами быта. Повесть эта, появившаяся, кстати, в один год с «Коллегами», подмечала в жизни куда более важные новации.
«Раньше руководитель как разговаривал с многотысячным коллективом? Становился на ящик из-под болтов и произносил речь. А теперь? Один только машинист роторного экскаватора выполняет программу двух сотен землекопов. Зачем же перед ним становиться на ящичный пьедестал и с этой высоты произносить зажигательную речь, будто перед тобой сотни людей?
Нужно с таким человеком сесть на подножку роторного экскаватора, чтобы быть, так сказать, на одном уровне от земли, закурить и беседовать, глядя прицельно в глаза, — быть человеком против человека; найти задушевные слова, соответствующие. новым историческим условиям и новым методам руководства»..
Повесть Вадима Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев» сплошь пронизана приметами времени. Новый тип руководителя, характерный именно для нынешнего времени, новые методы руководстве, в которых выразился дух Двадцатого съезда, новая психология рабочего, диктующая новые формы отношения к нему, — все это приметы времени настолько важные, что их одних уже было бы достаточно «Балуеву», чтобы занять свое место в литературной летописи наших дней, рядом с романами Г. Николаевой, В. Кетлинской, С. Сартакова, Д. Гранина, А. Чаковского, С. Залыгина, Вл. Фоменко, Е. Мальцева и других писателей, которые так или иначе запечатлели происходящие в наше время свершения.
Но в повести «Знакомьтесь, Балуев» (особенно в первой, по моим читательским ощущениям, более сильной ее половине) сделано художественное открытие, которое заставляет нас выделить это произведение из добротного литературного ряда. Главное художественное открытие В. Кожевникова — не столько тип Балуева (этот тип, повторяю, подмечен многими), сколько интонация, в которой о Балуеве рассказано.
Заметили ли вы, что от заглавия до последней строки проходит через повесть ироническая интонация, с позиций прямой логики совершенно непонятная, эдакое добродушнейшее подтруниванье над героем, небрежная такая улыбка, в которой, между прочим, заложен динамит страсти? Что, вопреки славным заветам высокой классики, автор то и дело выходит собственной особой из-за кулис и, прерывая действие, вступает с нами в объяснения, которые нас, представьте, не только не раздражают, а становятся едва ли не важнее самого действия? И что как-то незаметно мы свыкаемся с тем, что энергичная деятельность П. Г. Балуева по прокладке газопровода интересна нам лишь постольку, поскольку мы узнаем о ней из уст этого самого рассказчика, который явно усматривает в П. Г. Балуеве нечто большее, чем можно передать в описаниях современных авралов и летучек?
С помощью интонации создается у Кожевникова ощущение той главной, истинной, подлинной реальности, которую надо уметь видеть за внешне описанным событийным рядом. Над этим-то призрачным отражением и подтрунивает автор! Не над героем! А над тем его контуром, который, выходя из-под пера рассказчика, неизбежно теряет столь многое в сравнении с прототипом, в сравнении с реальной действительностью. Усмешки Кожевникова в адрес этого литературного, «типизированного» Балуева отсвечивают подлинным преклонением перед Балуевым жизненным. В этом — секрет интонации.
Кожевников охотно и умело вводит приметы времени. Но, вводя эти приметы, детали, частности, новейшие, так сказать, аксессуары, он каждый раз как бы ухмыляется загадочно. Он иронизирует и над ступенькой экскаватора, на которую присаживается П. Г. Балуев, чтобы, в соответствии с новыми методами руководства, посмотреть рабочему прицельно в глаза. В отличие от Аксенова, Кожевников знает цену частностям. И, описывая реалии и приметы, он каждый раз — с помощью интонации— напоминает себе и нам, что суть дела глубже, что завтра, если надо, если переменятся задачи, П. Г. Балуев опять влезет на ящик из-под болтов и произнесет зажигательную речь и что он опять будет прав, но что и тогда это будет не главное, а главное, подлинная реальность — в той жизнецепкости, стойкости, убежденной вере в свои силы и в свою правоту, которая и позволяет П. Г. Балуеву иронизировать даже над самим собой и, между прочим, каждый раз оказываться на уровне, соответствующем новым историческим условиям и методам руководства и новым, так сказать, приметам времени.