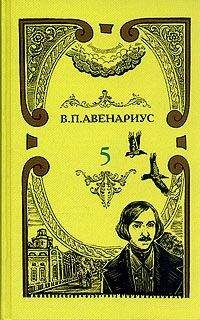Надо заметить, что старика Гоголя в то время не было уже в живых, и семья его, состоявшая из вдовы, одного сына и четырех дочерей, осталась в довольно стесненных обстоятельствах. Но для своего любимца Николаши мать ничего не пожалела: отправляя его в дальнюю дорогу, она вместе с прощальным благословением отдала ему чуть ли не последние наличные гроши.
В январе 1829 года Николай Васильевич добрался до Петербурга. С первых же шагов пришлось ему несколько разочароваться.
"Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал (писал он). Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы".
Еще более ошибся он в своих расчетах на быструю чиновную карьеру. Старик Трощинский хотя и дал ему с собой рекомендательное письмо к одному петербургскому сановнику (Л. И. Кутузову), но последний был опасно болен, и молодого провинциала сперва вовсе к нему не допустили. Несколько времени спустя перед ним хотя и открылись двери, но все участие сановника ограничилось любезными обещаниями.
Между тем, избалованный матерью и не привыкший стесняться в расходах, Николай Васильевич начал испытывать все неудобства безденежья. После трех месяцев пребывания в Петербурге, нигде еще не пристроясь, он горько жаловался родным, что живет в четвертом этаже, отказывается от всяких удовольствий и "не франтит платьем, как было дома", а имеет только пару чистого платья для праздника или для выхода и халат для будня".
Так-то поневоле ему пришлось искать временного заработка хоть литературной работой. Начало предвещало успех: посланное им, без подписи, к издателю "Сына Отечества" стихотворение «Италия» было напечатано. Ободренный этим, начинающий поэт издал, уже на собственный счет, большую поэму свою "Ганс Кюхельгартен", написанную еще в 1827 году. Но, увы! никто ее не похвалил: кто просто отмалчивался, кто находил, что это — подражание Фоссовой идиллии «Луиза», а известный журналист Н. А. Полевой отделал поэму безвестного автора так немилосердно, что тот навек закаялся писать стихи и вместе со слугой своим Якимом обежал все книжные лавки, чтобы отобрать оттуда свое злосчастное сочинение и дома сжечь его.[5]
Надо было попытать счастья еще на одном поле, где он некогда пожинал лавры: на театральных подмостках. Но и здесь самолюбию его был нанесен жестокий удар: когда он в кабинете директора театров князя Гагарина, в присутствии двух лучших актеров — Каратыгина и Брянского, был подвергнуть предварительному испытанию, на него, как назло, напала такая робость, что он прескверно прочел свою роль — и был признан не способным к театру!
Ко всем этим неудачам прибавилась еще одна — сердечная. Сердце его заговорило, едва ли не единственный раз в жизни, — и не нашло взаимности.
Оставалось одно — бежать куда глаза глядят. Он сел на пароход и укатил за границу. Но, едва ступив на немецкую почву, он сообразил, что взятых с собой денег у него недостанет на дальнейшее странствие, и вернулся домой — в 4-й этаж на Мещанской.
В апреле 1830 года, наконец, Николаю Васильевичу удалось получить место помощника столоначальника в департаменте уделов. Но каково же было ему, мечтавшему вершить судьбы своего отечества, подшивать только «дела», вести реестр «входящих» и «исходящих» бумаг! Поэт Жуковский, покровитель всех молодых литературных талантов, принял участие и в Гоголе: сначала по его рекомендации Плетнев, инспектор Патриотического института, пригласил Николая Васильевича в этот институт старшим учителем истории; а затем Плетнев, со своей стороны, отрекомендовал его наставником детей в два аристократических дома — Васильчикова и Балабина.
М. Логинов, видевший молодого Гоголя у Балабиных, в начале 1831 года, дает нам следующее характеристическое описание его наружности: "Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волос на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, — все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества: вот каков был Гоголь в молодости".
Летом того же 1831 года молодой писатель граф Соллогуб случайно встретился в первый также раз с Гоголем в Павловске, на даче у тетки своей, Васильчиковой. От последней Соллогуб услышал, что нанятый ею для детей наставник — "охотник до русской словесности и, как ей сказывали, даже что-то пописывает".
"Как теперь помню это знакомство (рассказывает граф Соллогуб). Мы вошли в детскую, где у письменного стола сидел наставник с учеником и указывал ему на изображения разных животных, подражая притом их блеянию, мычанию, хрюканию и т. п. "Вот это, душенька, баран: бе, бе… Вот это корова, знаешь: му, му". При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие. Я поспешил выйти из комнаты, едва расслышав слова тетки, представлявшей мне учителя и назвавшей мне его по имени: Николай Васильевич Гоголь".
Такое-то скромное, можно сказать, приниженное положение занимал еще тогда наш великий юморист! Но вслед за тем имя его сделалось вдруг известным всей читающей России, и первым, обратившим всеобщее внимание на замечательное новое дарование, был не кто иной, как Пушкин.
В февральской и мартовской книжках "Отечественных записок" 1830 года Гоголь поместил, без подписи, повесть свою "Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купалы". Она была так же мало замечена публикой и критикой, как и явившиеся после того в том же журнале, в "Литературной газете" и в "Северных цветах" некоторые незначительные статьи его, вошедшие впоследствии в «Арабески». Но к маю 1831 года у него было готово уже целое собрание законченных повестей, составивших первый том "Вечеров на хуторе близ Диканьки", и, по совету Плетнева, он решился выпустить их опять без своей подписи, под псевдонимом "пасечника Рудого Панька ". Еще, однако, до выхода книги в свет Плетнев рассказал о ней приятелю своему, Пушкину, и тот пожелал видеть начинающего автора.
Лето 1831 года Пушкин, женившийся только за несколько месяцев перед тем, проводил с молодой женой на даче в Царском Селе. Там же в качестве наставника наследника престола, Александра Николаевича (впоследствии императора Александра II), жил во дворце и Жуковский. Два поэта виделись между собой ежедневно, и Жуковский, уже прежде знавший Гоголя, ввел последнего в дом своего друга-поэта. Несмотря на то что целые 10 лет разделяли хозяина и гостя (Пушкину было уже 32 года, Гоголю всего 22), великий поэт наш принял безвестного еще сотоварища по перу так просто и радушно, что мнительный, скрытный по природе Гоголь не устоял и "развернулся".
"Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе (писал он осенью приятелю своему А. С. Данилевскому). Почти каждый вечер собирались мы, Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей! У Пушкина повесть, октавами писанная: «Кухарка»,[6] в которой вся Коломна и петербургская природа живая. Кроме того, сказки русские народные, — не то, что "Руслан и Людмила", но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами,[7] и прелесть невообразимая!"
Издание "Вечеров на хуторе" потребовало еще до конца лета возвращения Гоголя в Петербург; а свирепствовавшая здесь холера была причиною строгого карантина с Царским Селом, куда Николай Васильевич, таким образом, при всем желании, не мог уже попасть. Зато Пушкин, несмотря на карантин, успел как-то раз проскользнуть в Петербург, что видно из следующих, чрезвычайно характеристичных строк Гоголя к Жуковскому (от 10 сентября 1831 года):
"Насилу мог я управиться со своею книгою, и теперь только получил экземпляры для отправления вам. Один собственно для вас, другой — для Пушкина, третий, с сантиментальною надписью, для Розетти, а остальные — тем, кому вы по усмотрению своему определите. Сколько хлопот наделала мне эта книга! Три дня я толкался из типографии в цензурный комитет, из цензурного комитета в типографию, и, наконец, теперь только перевел дух. Боже мой! Сколько бы экземпляров я отдал за то, чтобы увидеть вас хоть на минуту. Если бы, часто думаю себе, появился в окрестностях Петербурга какой-нибудь бродяга, ночной разбойник, и украл этот несносный кусок земли, эти 24 версты от Петербурга до Царского Села и с ними бы дал тягу на край света; или какой-нибудь проголодавшийся медведь упрятал их, вместо завтрака, в свой медвежий желудок! О, с каким бы я тогда восторгом стряхнул власами головы моей прах сапогов ваших, возлег у ног вашего превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст ваших, приуготовленный самими богами из тмочисленного количества ведьм, чертей и всего, любезного нашему сердцу. Но не такова досадная действительность или существенность. Карантины превратили эти 24 версты в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только? — что э… но вы не поверите мне, назовете меня суевером; что всему этому виною не кто другой, как враг честного креста, церквей Господних и всего огражденного святым знамением. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил к боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника; как дух, пронесся мимо его и во мгновение ока очутился в Петербурге, на Вознесенском проспекте, и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару, под высокими домами. Это была радостная минута; она уже прошла. Это случилось 8 августа. И к вечеру того же дня стало все снова скучно, темно, как в доме опустелом -