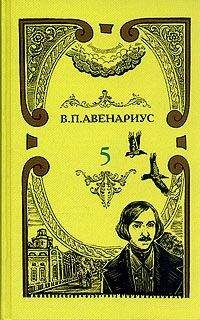VI
По протекции Пушкина же и Жуковского Гоголю было предоставлено в 1834 году место адъюнкт-профессора в Петербургском университете по кафедре всеобщей истории. Хотя он урывками и занимался историей, особенно родной своей Малороссии, и собирался написать историю средних веков "томов из 8-ми, если не из 9-ти" (как сообщал он Максимовичу), но, при его посредственном образовании, задача оказалась ему не по силам. Только вступительная лекция, которую он, очевидно, вперед сочинил и заучил, вышла образцовая. Начиная уже со второй лекции чтение его было вяло, безжизненно и сбивчиво.
"Но вот, однажды (рассказывает один из его слушателей, Иваницкий) ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уже знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь. Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы, вслед за тремя поэтами, вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь взошел на кафедру и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках». Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их поэтически… Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны: ни одно событие, ни одно лицо историческое не вызвало его на беседу живую и одушевленную. Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена. Без сомнения, ему самому было скучно, и он видел, что скучно и его слушателям. Бывало, приедет, поговорит с полчаса с кафедры, уедет, да уж и не показывается целую неделю и две… Так прошло время до мая. Наступил экзамен. Гоголь приехал, подвязанный черным платком; не знаю уж, зубы у него болели, что ли. Вопросы предлагал бывший ректор Ш. Гоголь сидел в стороне и ни во что не вступался. Мы слышали уж тогда, что он оставляет университет и едет на Кавказ…"
В конце 1835 года Гоголь, действительно, окончательно бросил профессуру.
"Теперь вышел я на свежий воздух (писал он Погодину). Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну, наконец, решаюсь давать на театр…"
Ему, автору "Тараса Бульбы", «Женитьбы» и целого ряда новых повестей, поражавших своим неподдельным, совершенно оригинальным юмором, слава ученого, в самом деле, не была уже нужна: наравне с Пушкиным ему было радушно открыты двери всех столичных гостиных. Но то самое общество, которое, в лучшей своей части, так сочувственно встретило молодой, многообещающий талант, разразилось теперь взрывом негодования, когда увидело на сцене его новейшую, великую и, в полном смысле слова, классическую комедию «Ревизор»: темные стороны русской жизни были изобличены в ней слишком явно и бесцеремонно. Этими незаслуженными укорами самолюбие болезненно-нервного автора было глубоко уязвлено. Ни Пушкин, ни Белинский (известный уже в то время критик) не могли успокоить его своими искренними похвалами.
"Еду за границу (писал Гоголь 10 мая 1836 года Погодину); там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне… Частное принимать за общее, случай за правило! Выведи на сцену двух-трех плутов — тысяча честных людей сердится, говорит: мы не плуты…"
Здоровье Николая Васильевича, никогда не бывшее цветущим, за время 7-летнего пребывания его в Петербурге значительно пошатнулось. Неоднократные поездки на юг России приносили ему только временную пользу. Поэтому предпринятое им летом 1836 года путешествие за границу было ему и без того необходимо. Телесные силы его, действительно, стали опять укрепляться, а с ними вернулась и бодрость духа, проявлявшаяся в разных проказах и шутках, из которых приведем здесь одну.
"Гоголь вздумал попробовать (рассказывает С. Т. Аксаков), можно ли путешествовать в чужих краях, не имея паспорта, и выдумал следующую штуку. Когда надобно было предъявлять где-нибудь паспорты, Гоголь отбирал их от пассажиров и очень обязательно принимал на себя хлопоты представить кому следует. Собственного паспорта он не отдавал, а оставлял у себя в кармане. Когда помеченные паспорты возвращали Гоголю, он принимал их, рассматривал и вдруг восклицал:
— Да где же мой паспорт? Я вам его отдал вместе с другими!
Тот, кто их записывал, совестился, извинялся, а Гоголь мастерски разыгрывал сконфуженного путешественника. Между тем надобно было ехать — и Гоголь уезжал с незаписанным паспортом".
Особенно полезно было Николаю Васильевичу пребывание в Веве, на Женевском озере. Здесь он принялся серьезно за "Мертвые души", начатые в Петербурге. Какое счастливое настроение было у него в это время, показывает следующий отрывок из письма его к бывшей его ученице, М. П. Балабиной, от 12 октября 1836 года:
"…когда я пришел к дилижансу, то увидел, к крайнему своему изумлению, что внутри кареты все было почти занято. Оставалось одно только место в средине. Сидевшие дамы и мужчины были люди очень почтенные, но несколько толсты, и потому я минуту предавался размышлению. Хотя, подумал я, мне здесь не будет холодно, если я усядусь посредине, но так как я человек субтильный и тщедушный, то весьма может быть, что они из меня сделают лепешку, пока я доеду до Веве. — Это обстоятельство заставило меня взять место наверху кареты. Место мое было так широко и покойно, что я нашел приличным положить вместе с собою и мои ноги, за что, к величайшему моему изумлению, не взяли с меня ничего и не прибавили платы, что заставило меня думать, что мои ноги очень легки. Таким образом, поместясь лежа на карете, я начал рассматривать все бывшие по сторонам виды. Горы чрезвычайно хороши, и почти ни одной не было такой, которая бы шла вниз, но все вверх. Это меня так изумило, что я уж и перестал смотреть на другие виды. Но более всего поразил меня гороховый фрак сидевшего со мной кондуктора. Я так углубился в размышления, отчего одна половина его была темнее, а другая светлее, что и не заметил, как доехал до Веве. Мне так понравилось мое место, что я хотел еще и больше полежать наверху кареты, но кондуктор сказал, что пора сойти, на что я сказал, что готов с большим удовольствием.
— Так пожалуйте мне вашу ручку, — сказал он.
— Извольте, — отвечал я.
С кареты сходил я сначала левой ногой, а потом правою, но, к величайшему прискорбию вашему (потому что я знаю, что вы любите подробности), не помню, на которую спицу колеса я ступил ногою — на третью или на четвертую. Если хорошо припомнить все обстоятельства, то, кажется, на третью; но опять, если рассмотреть с другой стороны, то, представляется, как будто на четвертую. Впрочем, я вам советую немедленно теперь же послать за кондуктором: он, верно, должен знать; и чем скорее — тем лучше, потому что если он выспится, то позабудет.
По сошествии с кареты отправился я к набережной встречать пароход. Выгрузились три дамы, Бог знает, какого происхождения, два кельнера и три энглиша, с такими длинными ногами, что насилу могли выйти из лодки. Вышедши из лодки, они сказали «гопш» и пошли искать table d'hТte. Потом я пошел к себе в комнату, где сначала сидел на одном диване, потом пересел на другой, но нашел, что это все равно, — что если два равные дивана, то на них решительно сидеть одинаково.
Здесь оканчивается путешествие. Все прочее, что ни было, все было незамечательно. Как вы хотите, но ответ вы непременно должны написать мне. Если вы затрудняетесь, каким образом писать, то я вам могу дать небольшой образец. Вы можете написать в таком духе:
"Милостивый государь, почтеннейший Николай Васильевич!
Я имела честь получить почтеннейшее письмо ваше сего октября… такого-то числа. Не могу выразить вам, милостивый государь, всех чувств, которые волновали мою душу. Я проливала слезы в сердечном умилении. Где обрели вы высокое искусство говорить так понятно душе и сердцу? Стократ, стократ желала бы я иметь искусное перо, подобное вашему, чтобы быть в возможности изливать такими же словами признательную и растроганную благодарность".
Потом вы можете написать: "Покорная к услугам", или "Готовая к услугам", или что-нибудь подобное, и письмо, я вас уверяю, будет хорошо".
Когда в Веве настали холода, Гоголь перебрался в Париж.
"Бог простер здесь надо мною Свое покровительство и сделал чудо (писал он в ноябре из Парижа): указал мне квартиру на солнце, с печкой — и я блаженствую. Снова весел; «Мертвые» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наше, наши помещики, наши чиновники, наши мужики, наши избы, словом — вся православная Русь… Не представится ли вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь… Сообщите об этом Пушкину: авось-либо и он найдет что-нибудь с своей стороны…"