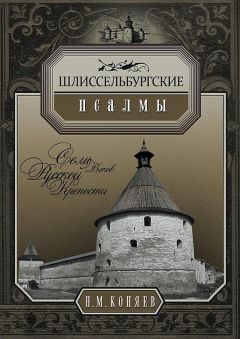Ни рвы, ни башни не делили их между собою. Жалобы селянина доступны были боярину, и быт боярина, простой почти столько же, как быт селянина, не давал повода первому презирать последнего, ни последнему ненавидеть первого. Правда, войны сметали их раз по пяти на веку... Зато они сами, в набегах с князем своим, вымещали на врагах то, что терпели дома, участвуя в грабеже и в дележе. Толки: "мы сбили, мы решили" утешали их в неудаче, и бедняги эти крепко засыпали голодные, свернувшись в бараний рог на пепле и на морозе, но убаюканные надеждою на добычу, на клады, на какое-нибудь чудо, - а русский верил чудесам, любил чудесное наравне с смешным, потому что первое золотило ему будущее, второе подслащало настоящее. Каждый перекресток имел тогда свою легенду, каждый пруд - своего духа, каждый лес - разбойника, каждая деревня - колдуна, каждый базар - сказочника. Чудесное бегало тогда по улицам босиком, приезжало из-за моря гостем, стучалось под окном посохом паломника. Оно совершалось наяву и во сне... Могучие народы набегали и исчезали, не оставив даже своего имени ветру степному. Славные князья бродили между чернью нищими или тлели в тюрьме без очей. Ничтожные бояре правили судьбами княжений, простые чернецы становились владыками. Мудрено ли ж, что добрые предки наши жадно слушали о том, как черт попался в рукомойник, о блаженных макарийских островах, о странах пригипшанских, где народ немцы и торгуют райскими птицами, о людях с собачьим рылом или с рыбьим хвостом, об оленях с финиковым деревом между рогов... Этнография, география, история - все тогда было сказка, а сказка значила повесть, потому что правда тогда была близнец выдумке. Находились люди, у которых на памяти Полкан-богатырь дрался с Добрынею, а у Пересвета, не то на крестинах, не то на поминках, ели они кашу. А мертвецы, а привидения, а знахари, а ведьмы наши? Ведьмы, которых жгли тогда так же равнодушно, как теперь фейерверки! А домовые и лешие, вовсе не родня гамадриадам, точащим кровь под секирою, или дивам-получеловекам, - нет, они воздушны, невещественны, проказливы, как Пук и Ариель Шекспира, как Трильби Нодье. Да и что за богатое, оригинальное лицо сам черт наш! Он не Демон, не Ариман, не Шайтан, даже не Мефистофель - он просто бес, без всяких претензий на величие. Он гораздо добрее всех их. Он большой балагур, он отчаянный резвец и порой бывает проще пошехонца, так что лукавцы надувают лукавого во всех сказках, хоть, правду сказать, я думаю, они немножко хвастают. Берите ж, ловите за крылья все причуды, все поверья старины и пустите их роем около лиц, вами избранных, как роились они прежде. Предрассудки - прелесть старины, как прелесть нашего века - фантазия. Предрассудки кипятили старину, как нас кипятит рассудок; пустите ж их работать - и, ради бога, не делайте своих героев такими умниками, будто они сейчас выскочили из экзамена на доктора философии. Мало вам беса, мало вам страхов, так вот смешное (утеха нашей старины и рычаг новой словесности) вертится перед вами на одной ножке скоморохом и заводит бесконечную сказку свою от Сивки от Бурки, от курицы-иноходицы, от поро-сенка-наступника. Казак Луганский показал, как занимательны могут быть эти простые цветки русского остроумия, свитые искусною рукою. Но Вельтман, чародей Вельтман, который выкупал русскую старину в романтизме, доказал, до какой обаятельной прелести может до-цвесть русская сказка, спрыснутая мыслию. Да, песня и сказка - душа русского народа: он веселится и горюет с песнею, засыпает под говор сказки. У князей были Бояны, Ураны, Митусы, у черни - Кирши Даниловы, сказочники, слепцы, скоморохи, певцы, которые умели и растрогать и рассмешить до слез, все величать и все пародировать. Умели уколоть шуткою и князя, и боярина, и попа... Отличительная черта русского простолюдина, что он никогда не был изувером и не смешивал веры с служителями веры; благоговел пред ризою, но не пред рясою, и редкая смешная сказка или песня обходится у нас без попа или чернеца. Еще есть у нас стихия, драгоценная для исторического романа: это дураки и шуты. С тех пор как нагую правду выгнали из дворца за бесстыдство, она прикинулась баснею и шуткою... спряталась под ослиное седло, захрюкала, запела кукареку, покатилась колесом, заломила набекрень дурацкую шапку и стала ввертывать свои укоры между хохота и ударов хлопушки. Заметьте, что басня и шутовство всегда проявлялись в Азии: их отчизна Азия, их спутник феодализм, и будьте уверены, что не случай породил шута, а необходимость. Шут был кривой проводник мнений народа ко власти и нередко проводник правосудия от власти к народу. Обличитель пороков, пересмешник недостатков, он не щадил ни гостей, ни хозяина и бичевал их намеками, не боясь бичеванья ремнями... Одним словом, шут-простолюдин, приближенный к князю, был что-то похожее на народного трибуна в карикатуре. Рассказы, которые ходят в народе про Балакирева, шута Петра Великого, порукой, что можно создать из подобного лица.
Мало вам и этого - пред вами любовь предков наших. Как ни изношены у нас сердца, но запрос на любовь еще велик... и посмейтесь, пожалуйста, тому грамотею в глаза, который скажет вам, что в старину мужчины видели женщин только за налоем, что про любовь тогда не было и в помине. Видно, эти господа никогда не заглядывали в сердце человеческое; забыли они, что любовь есть не понятие, а чувство, свойственное всем векам и народам. Спору нет, она в старину была не так жеманна и мечтательна, но тем не менее нежна и страстна. Спору нет, предки наши женились через свах, не видя невест; но разве мы не женимся, не глядя на них, из расчетов и для приданого, как всегда бывало; а между тем любовь идет своим чередом. Говорят, знать наша запирала жен и дочерей, особенно со времен татарства; но неужели вы думаете, что замки, и стены, и кинжалы держат любовников даже у мусульман! Сказки! Тем паче у нас, у которых гостеприимный нрав и самая постройка домов тому противятся. Переберите наши песни и сказки, и пы убедитесь в том. Вот вам и вся лестница духовной иерархии, миротворная, редко честолюбивая сверху, невежественная и часто забавная снизу. Клирошане и причетники, бельцы и монастырские крестьяне, все со своим чванством, причудами, правами, в беспрестанном столкновении с мирянами: толпа своеличная даже до нищих, кликуш и юродивых, составлявших непременный штат каждой церкви! Юродивые занимали то же место между судьбой и народом, как шуты между владельцем и народом. Божьи люди эти были облечены неприкосновенности!!); их темные речи принимались за угрозы, за пророчества свыше. Вот вам и самосуд-вече в Новегороде и примерный суд его с присяжными, с объездным и судьями, с поединками, с русскою правдою "поле", которого до сих пор никто не тронул. Вот вам лобное место пред Кремлем, с его правежем и гостинодворст-вом. Садитесь на лихую тройку и поезжайте по святой Руси: у ворот каждого города старина встретит вас с хлебом и солью, с приветливым словом, напоит вас медом и брагою, смоет, спарит долой все ваши заморские прнти-ранья и ударит челом в напутье каким-нибудь преданием, былью, песенкой. До сих пор вы видели только разносчиков, говорили только с извозчиками; теперь увидите бодрый, свежий, разноязычный, разнообразный, судя по областям, народ - народ, который мало изменился со времен Святослава, ибо татары и поляки мало имели дела с простолюдинами. Купцы торговали с ними, бояре ползали перед ними - народ только резался с ними или бегал от них и, заплатив раз в год черную дань сборщику, после не видал его в глаза [Почти все татарские слова, оставшиеся в нашем языке, привезены на вьюке и не касаются до коренного быта, напр., фата (фита), серьги (сергиляр), кушак (кульша), изъян (зиан), магарыч, тамга. Военные термины заняли мы прежде у азиатских кочевых племен. (Примеч. автора.)]. В свою очередь он редко видывал и бар своих, всегда собранных около князей или царя, и оттого до сих пор сохранил свою поступь, поговорку, свой обычай, облик, свой оригинальный характер, которого основание - авось, свою безрасчетную предприимчивость, свое простовидное лукавство, свою страсть ко хмелю и к драке, свой язык, столь живописный, богатый, ломкий; словом, это народ, у которого каждое слово завитком и последняя копейка ребром... Но где мне исчислить все девственные ключи, которые таятся доселе в кряже русском! Стоит гению топнуть, и они брызнут, обильны, искролет-ны. Смешно и указывать ему: бери вот отсюда, сделай то-то; он сам найдет, что ему надобно, он пе пойдет справляться с риторикою или пиитикою... Словесность не наука, словесность искусство, ибо она творит, а не производит; а творчеству, а воображению закон не писан и никогда не напишется. Изящное всегда будет правильно. Вот почему нелепы попытки научить писателей писать; вот почему для словесности полезна лишь одна критика, ибо цель ее не поправлять автора, а приготовить читателя ценить его творение. Она не учит серинеткою соловья петь, не учит молнию летать как бумажный змей, а дергает рассеянного охотника за полу и говорит ему: "Послушай, погляди, как эт,о прекрасно!" Она судит не как судья, по книге, а как присяжный, по совести, положив руку на сердце, и, даже ошибаясь, приучает вас судить прямо. Так и не более скажу я свое мнение о были Н. Полевого; не более, как так. Прочь от меня эта самозваная, щепетильная критика, которая до сих пор пропитывается у нас кавыками и недоглядками, которая с холодом бесчувствия смотрит на изящное и щупает его как евнух, покупающий невольницу на базаре. Была б у нее мягкая кожа, была бы в ней указная мера, а до ума, до души, до выражения лица что ему за дело! Misere! И они хвалятся этим мизером, они выигрывают на него!