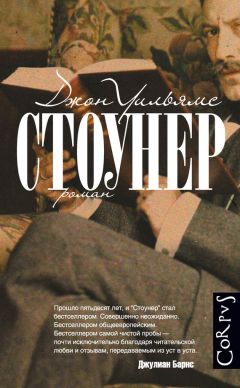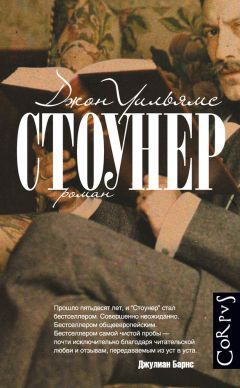И вот еще один разговор. Знаю, здесь надо сказать что-то «оправдательное» – мол, эта беседа идет за той беседой, потому что… Но нет. Просто – вот еще один разговор – с Виктором Голышевым. Великим переводчиком и одним из самых значительных людей нашего времени.
Роману Джорджа Оруэлла «1984» исполнилось 65 лет
06.06.2014
Анна Наринская: Ваш перевод «1984» вышел в 1988-м. К этому времени этот роман на русском уже существовал – пусть неофициально. Почему вы решили его переперевести?
Виктор Голышев: Для меня это не был переперевод. То есть я понимал, что, наверное, перевод на русский уже имеется, но я никогда его не видел. А тогда я думал, что перевести и, главное, издать эту книгу надо срочно. Причем я боялся, что, может, и не успею – в том смысле, что окно этой свободы захлопнется, как это было при Хрущеве, который вроде бы дал всем вздохнуть, потом сам испугался и сдал назад, а потом его сняли. Я думал, и с Михаилом Сергеевичем так будет. И с ним действительно так и было – его действительно сняли, но свобода слова еще продержалась какое-то время.
А. Н. То есть для вас этот текст был исключительно метафорой советской власти? Или вы все-таки держали в голове, что это Оруэлл выяснял свои отношения с лейбористами…
В. Г. И с консерваторами – он вообще всем неугоден был…
А. Н. Что он вообще-то писал во многом о возможном британском будущем?
В. Г. Нет, конечно, для меня первым стимулом было то, что это так похоже на нас. Причем до мелочей – включая дефицит бритв и шнурков. А вторым, но не менее важным, – то, что герой там сопротивляется. Он пытается противостоять системе. А такой герой нам всегда интересен – будь это Остап Бендер или главный герой бергмановского «Лица». Оруэлл верит, что и в такой ситуации, при таком режиме можно остаться человеком.
А когда я книжку уже перевел и стал о ней, скажем так, задним числом думать, то мне вдруг стало ясно, что она ведь про любовь. А этого никто из нее не вычитывает. Там все, конечно, с этой любовью плохо в конце концов выходит, но она во многом всю эту историю держит. Единственное, что может дать бой (пусть даже проиграв в итоге) этому кошмару, – любовь. Но это я понял уже потом, по зрелом размышлении. Ну а когда читал, когда переводил – главное для меня, конечно, были эти параллели с советскостью. Только их нельзя было буквально втаскивать в текст – это бы убило универсальность Оруэлла.
А. Н. То есть вы не стали переводить Оруэлла на советский язык? Думаю, когда ваш перевод вышел, это многих разочаровало – тех, кто хотел видеть в этом чисто антисоветскую пропаганду.
В. Г. Да, тогда мне стали разные энтузиасты писать. Например, что оруэлловских скаутов надо назвать «шпионерами», но я ничего такого очевидно советского не хотел. Этот фельетон, злободневность – это все очень быстро издыхает.
А. Н. А что остается?
В. Г. Остается актуальная на все времена книга. Говорящая о двух главных вещах, на которых держится тоталитарное государство, любое тоталитарное государство – не только советское и не только дошедшее уже до массовых репрессий. Промывание мозгов и страх.
И вот посмотрите, с первым – с промыванием мозгов – у нас сейчас дела обстоят отлично. Тут мы, мне кажется, вступили даже в более серьезную стадию, чем при советской власти. Тогда все было куда менее изобретательно – объявляли дежурно: «Опять бастуют горняки Рура» – и все. А сейчас выходит какой-то одутловатый ведущий в костюме, как-то странно, невпопад речи делает руками, и – вы не поверите – если я не выключу телевизор, то через полчаса я начинаю сомневаться: может, против нас действительно выступают фашисты с бандеровцами? Тут важно, что это не полное вранье, типа «через двадцать лет будем жить при коммунизме», а смесь специальным образом отобранных фактов и лжи. Изложенная уже практически оруэлловским новоязом. Потому что новояз – это, конечно, не конкретные слова, а некий уродливый язык, задача которого – ограничить мысль и довести ее до речекряка. И этот человек в телевизоре – он как раз в этом преуспел.
Ну или то, как Оруэлл описывает, что они там историю переписывают каждый день – меняют в нужную сторону концепцию прошлого. Тут уж судите сами…
А. Н. Это первый фактор – промывание мозгов. А второй, вы говорите, страх.
В. Г. Да, страх – это перед пытками. Ну или что просто посадят. Сейчас этого у нас нет.
А. Н. Ну, страх бывает разный. Есть страх сесть в тюрьму, а есть страх, что тебя, например, выгонят с работы, – и это тоже страх. Или – и это у Оруэлла, безусловно, есть – страх, что за тобой следят, что ты всегда под колпаком.
В. Г. Да, это удивительно, как он технические вещи предсказал. Там, например, есть телекран – телевизор, который дает возможность за тобой следить, устройство тотального слежения. Теперь это уже общее место, даже обсуждать неинтересно: вы пользуетесь мобильником, компьютером – и все, вы доступны соглядатаю.
А. Н. И вспоминать по поводу этого оруэлловского Big Brother стало уже тоже штампом.
В. Г. Да, потому что в «1984» про тотальную слежку в каком-то смысле все сказано.
А. Н. Вообще у Оруэлла была какая-то, что ли, зацикленность на тоталитаризме.
В. Г. Ну, во-первых, он был борец за права трудящихся. Причем настолько искренний, что он не подходил ни самим трудящимся, ни левым, ну, и ни правым, конечно. А красными еще в молодости поперхнулся, еще сражаясь в Испании. Он же был членом ПОУМа (POUM: Рабочая партия марксистского единства. – А. Н.) и сам видел, как два крыла партии друг с другом передрались и готовы были применять друга против друга жесточайшие репрессии. То есть конкретную механику этого он понял еще в Испании.
К тому же для него дело было не только в уровне содержания, но и в уровне выражения. У него есть эссе «Политика и английский язык», и там имеется множество примеров того, что политическое употребление вообще с языком делает, но пальма первенства принадлежит как раз красным: «Капиталистический спрут пропел свою лебединую песню». Оруэлл считал это неким выражением сути, конечно.
Потому что сам он был человеком очень ясной мысли. Это вообще в нем чуть ли не главное. И он эту мысль выражал без всякой красоты. Вот когда читаешь французов – там всегда какие-то метафоры, художество какое-то есть. Я вот, например, из-за этого даже Камю с трудом читаю. А Оруэлл этого не признавал. У него мысль очень четкая, он каждый раз точно знает, что хочет сказать. И никакого украшательства. И вся эта социалистическая метафорика была ему совершенно чужда. Все, что надо сказать, должно быть сказано ясно, как велел Витгенштейн.
А. Н. При всем том Оруэллу можно бросить тот же упрек, который с легкостью бросают, например, нашей теперешней оппозиции. Мол, он только антиутопии писать, то есть критиковать умеет, а «конструктива», как сейчас говорят, никакого не предлагает. У него была идея построения мира? С чем она совпадала? С современной западной демократией?
В. Г. Нет, думаю, она ему не очень подходила. И сомневаюсь, что у него была политическая программа. Ну, кроме мелочей – что правду говорить надо, что людей истреблять не надо. Какая у трезвого человека вообще может быть программа? Главная задача – понять, что происходит. К этому надо стремиться. А это главная проблема – и главная проблема сегодняшнего дня: мы не понимаем, что происходит, совершенно. Не понимаем, откуда происходит то варево, в котором мы оказались. А Оруэлл умел не обманывать себя. Умел не быть рабом настроения – когда, в зависимости от него, то «все ужасно», то «да ладно, образуется». У него мозги существовали отдельно от этого дела. Оруэлл считал, что его цель – понять, что происходит, а не рассказывать, «как надо».
Хотя под конец жизни он все-таки в таком стиле выступил. Он составил и отправил «куда следует» списки тех, с кем, по его мнению, не надо иметь дело, – те, кто, как он писал, были «розоватыми», вроде Чарли Чаплина. Он не то чтоб хотел, чтоб их посадили, но считал нежелательным, чтоб их публиковала британская пресса. Вот такой путь от участия в интербригадах к этому. При всей его трезвости. Не люблю цитировать Ницше, но, действительно, если смотреть в бездну, она станет смотреть в тебя.
Устоявшееся уже кошмарное словосочетание «культурный журналист» заставляет меня вспомнить воззвание, висевшее в поликлинике, куда меня водили в детстве. «Товарищи, будьте культурны, не плюйте на пол, а плюйте в урны».
Примерно такую «культурность» в конечном счете это словосочетание подразумевает. Потому что влияние не только всех наших писаний о культуре, но и самой «культуры» (то есть произведений, о которых мне по роду службы приходится писать) на живую жизнь совсем не так велико, как принято считать.
Не так давно я выложила на своей странице в фейсбуке статью из газеты The Guardian о жительнице штата Джорджия, которую казнили при помощи смертельной инъекции. В 1997 году она вместе с любовником убила своего мужа. Любовник, схваченный полицией, ее сдал (и сам получил пожизненное, а не смертный приговор). И вот спустя 18 лет смертная казнь была приведена в исполнение, несмотря на мольбы ее уже выросших детей.