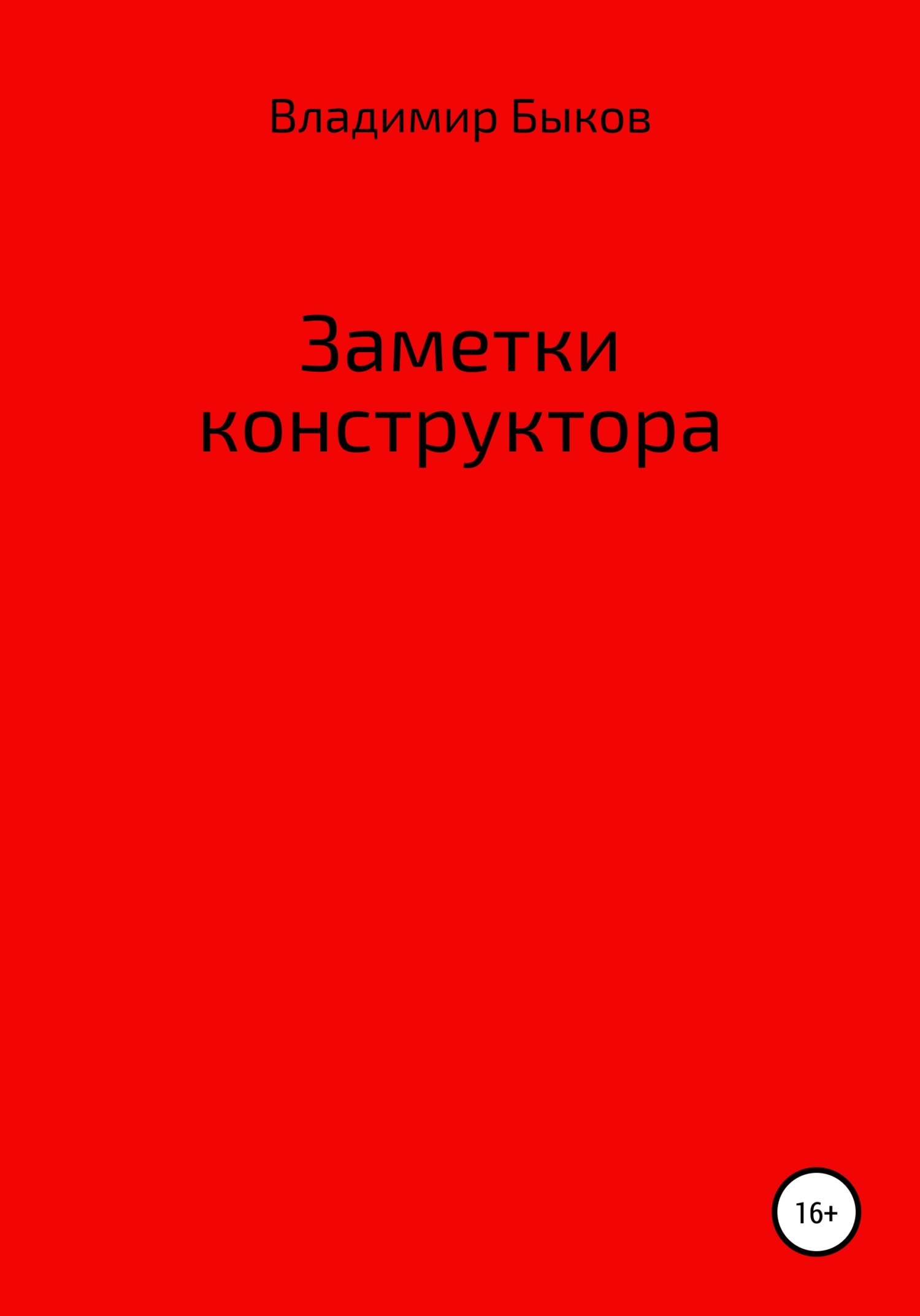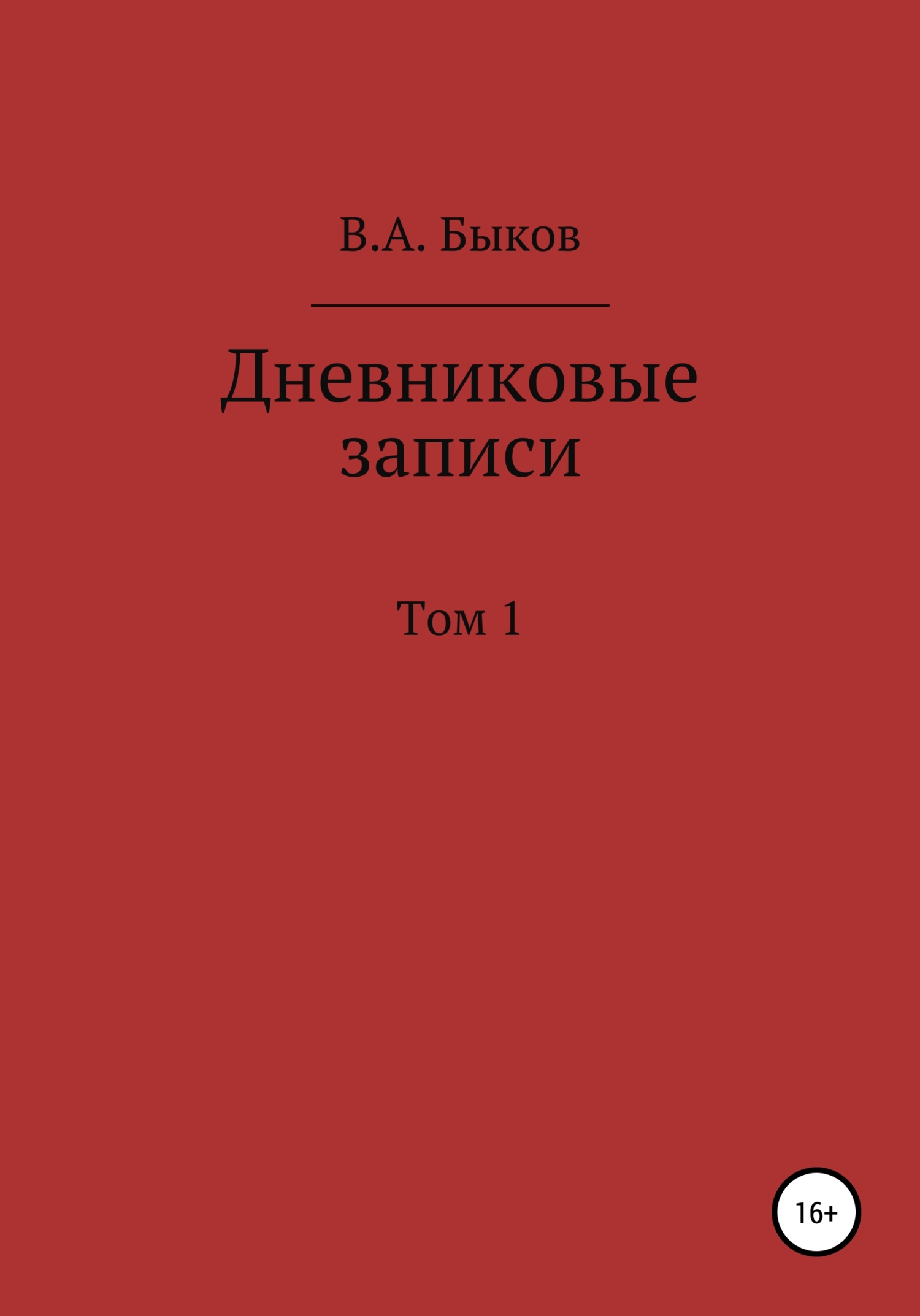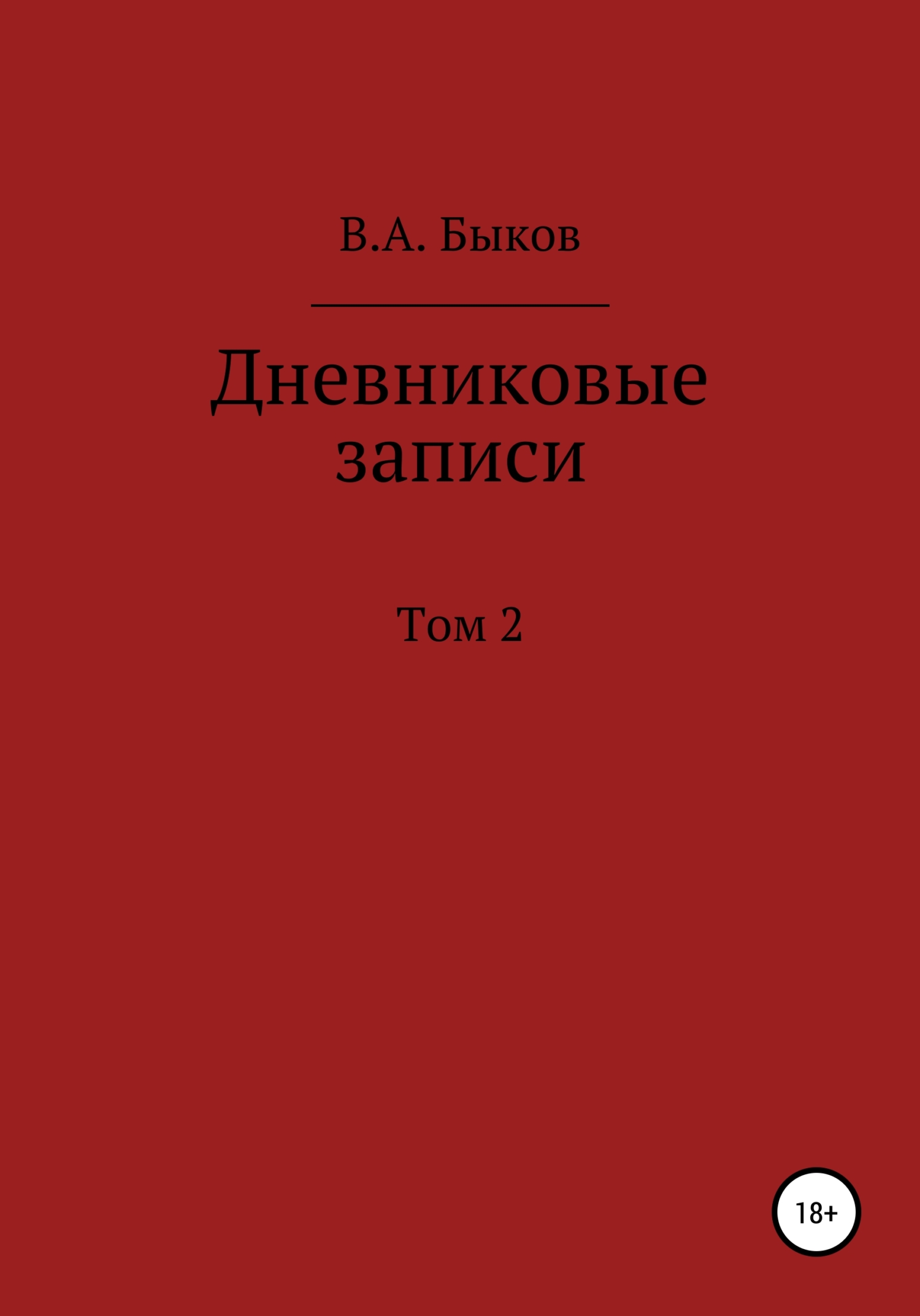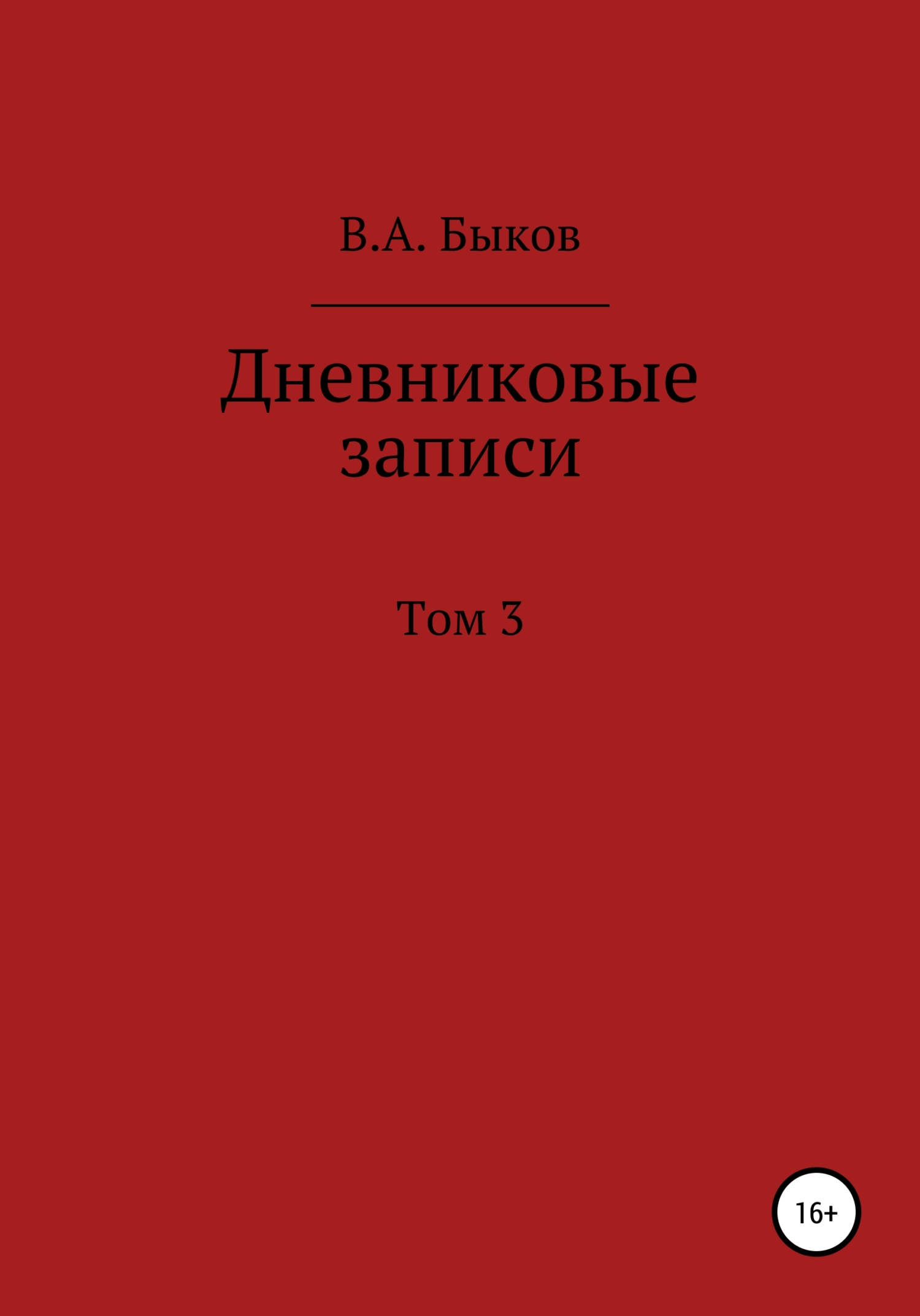вполне объяснимая. В свердловчан были влюблены, кажется, все знаменитости. Выступления Гилельса и Ойстраха, Иванова и Лисициана, да и собственного оркестра филармонии под управлением Павермана пользовались громаднейшим успехом. Царило послевоенное воодушевление. Вошло почти в норму после второго – третьего выступления на «бис» всем в зале вставать и слушать стоя. На фортепьянном концерте в то время мало известного пианиста Мержанова, бывшего в неописуемом угаре очарованности не то кем-то персонально, не то всем Свердловском, зал стоял целый час. На Лисициана мы бегали смотреть за кулисы и он демонстрировал нам, расстегнув рубашку, работу своей диафрагмы. Не меньшее восхищение у меня осталось от свердловских театров с Глазуновой, Китаевой и Вутирасом, Емельяновой и Мареничем, Ильиным и Максимовым. Посещение любого спектакля с их участием воспринималось большим событием. В помещениях театров чистота и порядок, обслуживающий персонал сверх любезен, публика празднично одета. В буфетах самое лучшее, что можно сыскать в городских магазинах.
Масса поучительного, радующего душу и сердце человека, заставляющего быть лучше, красивее и добрее. Но главное – много хороших умных людей. Учились ли мы у них? Да, но не всему. Становились на ноги, но не так как они. Не обо всем они с нами разговаривали, не все свои знания и опыт могли нам передать. Люди жили двойной жизнью. На трибуне – одни, в служебном кабинете – другие, дома – третьи. Но и дома, даже отец не полностью открывался перед сыном, скрывал свои сомнения, свой взгляд на жизнь либо из собственной боязни, либо боязни за свое чадо: дабы не знал, не проговорился, где не следует. И только мы, одержимые, как все молодые, не знавшие, а только слышавшие о репрессиях да к тому же больше о тех, которые кончались благополучно и где просматривалась вроде и справедливость, говорили то, что думали, и не признавали черное белым, по крайней мере, значительно чаще, чем это могли себе позволить старшие товарищи.
Наша студенческая группа была аполитична и потому из нее никто не вышел ни в партийные работники, ни в крупные руководители, от которых требовалось думать одно, а говорить убежденно другое. Кстати, одна из причин того, почему со временем огромное число способных и талантливых людей оказались за бортом управления хозяйством и страной и у власти становились главным образом одухотворенные не стремлением вершить полезные дела, а болезненным нетерпением подъема по ступенькам ее иерархии. Мы же руководствовались естественным природным принципом здравого смысла. Его часто критикуют как нечто неопределенное, схоластическое. Я же лично им всегда руководствовался и мало, когда не достигал цели. Окончательно утвердился в его правильности много позднее на одном из совещаний и самым неожиданным образом. Зная о моей приверженности данному принципу и постоянном моем упоминании о нем во время споров, видимо, в аналогичной ситуации, один из моих доброжелателей вытащил из ящика стола английский стандарт, открыл его на какой-то странице и в конце приведенных в нем четких и точных требований к изделию зачитал: «и далее – по здравому смыслу».
Что же такое здравый смысл? Да свод неписаных, законом не установленных, но здоровым большинством общества принятых норм и правил. Интуитивное следование накопленному в природе опыту, возможно быстрому и с минимальным числом нежелательных возмущений движению. В любом деле, а что касается поведения человека и принимаемых им решений – тем более, и не только на бытовом уровне, а и в области абстрактного познания.
Так вот мы, руководствуясь здравым смыслом и в силу своей аполитичности, за что не раз были биты, уже тогда, хотя и с юношеской наивностью и верой во всякие святости, нередко давали верную оценку окружающей нас действительности. Знали многое и имели собственное мнение. Другое дело, что знали с определенными сомнениями, ибо в плане реальной оценки фактов были лишены полной информации – величайшего преступления управителей тоталитарной системы, потому что вершилось оно не по ошибке, не по недомыслию, а сознательно для подчинения своим интересам страны и народа. Вершилось нагло и сверх масштабно.
Знали и гордились мощной индустрией, способностью построить за 10 лет гигантские заводы. Восхищались гениальностью Сталина, верно оценившего исходные позиции для своего возвеличивания: что у нас масса талантов для решения поставленной задачи; что в стране огромные запасы золота, скопленного за 300 лет империи Романовых; что подавляющая часть населения страны воспитана на вере в царя – батюшку. Знали, что тридцатые годы никакие в партии не идеологические разногласия и не предательство, а элементарная борьба за власть и нужное ей искусственное создание соответствующей обстановки. Спорили, и пришли к выводу, что партийные догматизм и дисциплина с их демократическим централизмом при 10-ти миллионной партийной армии есть средство держать народ в узде и, при необходимости, послать его без усилий на любое дело: хоть на войну, хоть на стройку. Больше в них нет никакого проку. Издевапись над высказыванием Сталина о марксизме-ленинизме, как науке, без знания которой не могут двигаться вперед все остальные. Смеялись над инспирированной им борьбой с космополитизмом (хотя и усматривали в ней определенный смысл и целесообразность, если бы они не сопровождались доведенными до идиотизма глупостями). Его старческим увлечением вопросами языкознания. Чувствовали и догадывались, что наши обратные потоку официальной пропаганды представления о Марксе и его школярской философии не могли не разделяться другими людьми и если они не известны нам, так только в силу их запрещенности. А теперь, читая Бердяева, Франка, Бакунина, Короленко, убеждаемся, что мы в оценке нас возмущавшего были даже лояльнее, чем наши предшественники.
Естественно, после таких представлений мы не могли не задавать себе вопрос: что делать? Но среди нас не было ни героев, ни борцов, ни способных на диссиденство. Видимо, для этого нужен особый склад характера, какой-то другой более высокий уровень возмущений. Мы же принадлежали к той прослойке не совсем безыдейных, думающих и жаждущих реализовать свои возможности с пользой для себя и общества, не конфликтуя с системой, используя ее слабые стороны, но не кривя особо душой, не вступая в противоречие с собственной совестью. Также , чтобы реализовать себя без лишних ограничений и не быть вне коллектива, вне обсуждаемых кем-то проблем, а отнюдь не по идейным соображениям, мы вступали в партию. Потом обращались в ее высшие органы по вопросам, не имеющим никакого отношения к политике, а только по тем, что считали нужными и важными для дела, для страны и народа. Короче, использовали систему в общечеловеческом плане, и в то же время критиковали ее между собой вдоль и поперек. Мы не пропагандировали партийные лозунги, не