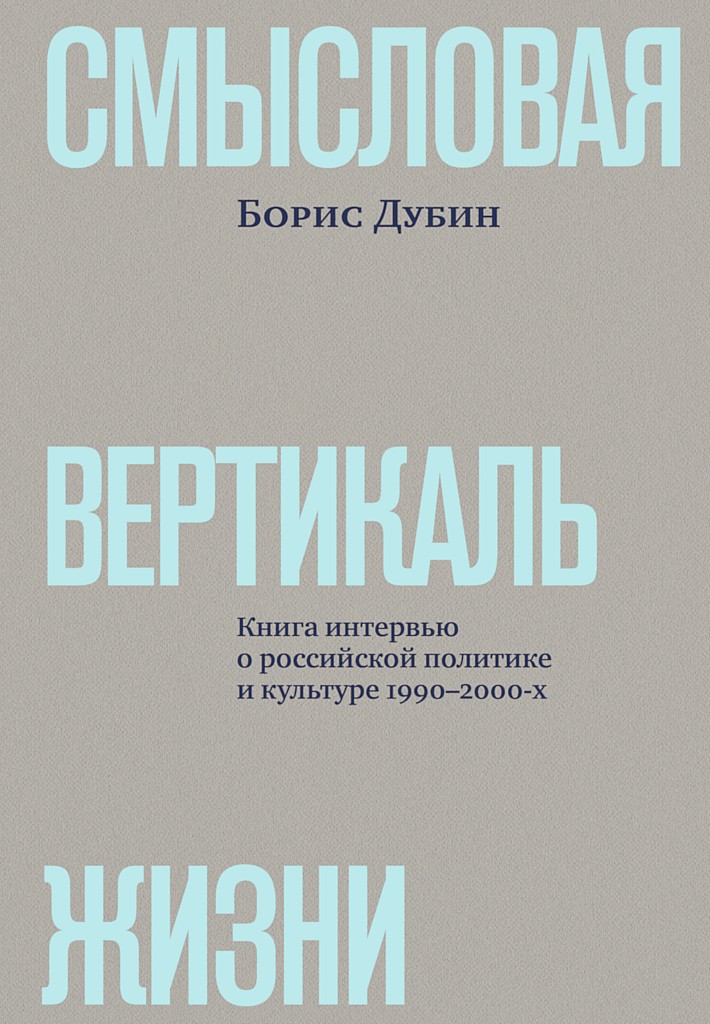так думать о себе, о власти, о Западе, о странах, которые вчера были советскими, а теперь стали независимыми и вызывают сильную враждебность.
Мне кажется, что сама конструкция этого большинства, на которое то молчаливо, то говорливо откликается власть и которое в качестве основы своей легитимности воспроизводит, была сформирована именно в 2000-е годы из пассивного состояния людей, пораженных происходящим и не умеющих найти себе место в окружающем, построить что-то новое. Работая на очернение 1990-х и усиливая патерналистскую составляющую коллективного мнения, пропаганда сформировала это представление большинства и до поры до времени опиралась на него, считала, что это вполне надежная опора. И только в последнее время, уже в связи с кризисом 2008 года, у населения по самому широкому кругу параметров стало нарастать ощущение неопределенности, бесперспективности и какой-то остановки времени. То, что в прежний период — на первом, а особенно на втором президентском сроке Путина — работало, с точки зрения большинства, в пользу власти под псевдонимами «порядок», «стабильность», теперь, в период тандема, начало ощущаться тем же большинством как если не отрицательный феномен, то, по крайней мере, как неопределенное, неуютное, бесперспективное существование. Верхушка этих настроений — события декабря 2011-го — марта 2012-го, которые просто конденсировали в себе ощущение, условно говоря, несоветских людей.
Но вот на митинги же выходят и те, кто хочет реставрации Советского Союза, для них что Гайдар, что Путин — одно и то же, и националисты, и те, кто хочет империю.
Конечно, я провокативно назвал их несоветскими людьми. Я бы предложил считать, что среди тех, кто выходил на площади, были более-менее все, но по-другому образцу построенные — как бы те же атомы, но в другой комбинации, иной структуре. Тут вот что нужно отметить и понять: в том меньшинстве меньшинства (кстати, поддержанном тогда относительным большинством населения), которое вышло заявить, что недовольно происходящим и собирается отстаивать свои права в будущем, были самые разные люди. Это не был средний класс, это не была только интеллигенция и это не была только молодежь. Там были все, в разных пропорциях, причем эти пропорции менялись от первых митингов к последним, вовлекая в том числе и те группы, которые раньше не были выпукло представлены. Во-первых, их объединяло общее недовольство властью и тем порядком, который установился. Второе — идея честных выборов, но я думаю, что здесь дело не просто в выборах, а в готовности к конкуренции и желании вернуть ее в политическую сферу хотя бы в виде механизма реальных выборов. В-третьих, в этом было требование прозрачности — открытости власти, публичности, нормального демократического характера и в этом смысле — снижения ее как бы сакральных претензий (пропаганда безальтернативности), мифологии уникальности, неповторимости путей России (пропаганда особости). В-четвертых, что очень важно: это фактически был запрос на то, чтобы работали институты нормального современного общества. Чтобы работал суд, чтобы работала прокуратура, чтобы правоохранительные органы были не страшны населению, а помогали ему справиться с его страхами, чтобы работали институты образования.
Большинство там в количественном отношении составляли не самые молодые, а люди 25–40 лет, у которых подрастают дети и которые, добившись чего-то сами, хотели бы понять, какие перспективы будут у их детей. Поэтому соединились заявка на институты, заявка на будущее и ценнейший и дефицитнейший капитал в российских условиях — готовность к солидарности. Вышли люди, готовые объединяться, даже поверх своих партийно-политических пристрастий. Конечно, националистам не нравилось, что они стоят рядом с либералами, а анархистам — что они идут рядом с коммунистами. Но они готовы были это выносить в определенных пределах, потому что очень понятно было, против чего они выступают. С позитивными требованиями было слабее, но, против чего, было очень понятно, и это объединяло людей.
Поэтому в какой-то мере они несут в себе черты советского человека, но в них уже эти черты соединяются с совершенно другими явлениями, ориентациями, ценностями, и главными, доминантными становятся эти ценности, которые, в свою очередь, перестраивают и значение советского. Тогда и получается, что кусочки смальты те же, а узор мозаики выкладывается другой, потому что им управляют другие ориентиры. Тем более это будет в поколении детей этих людей.
То есть можно дать прогноз, что советское будет постепенно изживаться, несмотря на продолжающуюся пропаганду примирения с советским?
Я думаю, да. Во-первых, уже эпоха участников и современников практически ушла или вот-вот уйдет, время свидетелей тоже так или иначе в ближайшие годы истощится, дальше обычно наступает время мифологии, но вряд ли мифологизация советского даст реальные шансы для политических, культурных, религиозных элит и сил их поддержки. Видимо, должен будет смениться весь ценностный рисунок, набор ценностных ориентиров. Будет ли это синтез общечеловеческого, западного, непонятной русской особости, как именно создастся этот коктейль, кто его создаст, в каких формах — это дело ближайшего будущего. Но я думаю, что доля советской «водки» в нем будет уменьшаться.
То, о чем мы говорим, является следствием пережитого тоталитарного периода, или все-таки есть в этом и непонятное особо русское, перешедшее еще со времен Российской империи или даже Ивана Грозного?
Вы имеете в виду властепочитание?
И властепочитание, и «короткие перебежки», когда реформы проходят непонятно как, и принцип «царь хороший, бояре плохие».
Думаю, определяющим стал период тоталитаризма 1930–1950-х годов — причем само тогдашнее устройство власти, а не только ее персонификация в лице Сталина. Дело не в личности («культ личности»), а в системе институтов, которые тогда были построены. Скорее всего, образец представлений 1930–1950-х годов о государстве, обществе, власти, семье, Западе, будущем вобрал в себя и какие-то наиболее архаические, устойчивые, глубинные и, что важно, плохо контролируемые индивидуально, не поддающиеся рефлексии элементы прошлого, еще дореволюционного опыта. Характерно, что эти элементы касались именно опорных, базовых институтов: власть, насилие, роль армии, ничтожество индивида в большой коллективности, двойное сознание, doublethink советского разлива. Мои коллеги и я считаем, что мы по-прежнему живем в тени, в полуобломках, щелях и трещинах этого тоталитарного режима, к которым быстро, по мере возможностей, присоединяются какие-то элементы западного, либерального, восточного, евразийского, православного, и рядом — религиозных поисков в духе new age, которые, напротив, полностью отрицают православие. Из всего этого создана времянка, где мы существуем и где ведущая, опорная роль принадлежит тоталитарному порядку, его основным (прежде всего — силовым, причем закулисным, избегающим авансцены) институтам и представлениям.
А можно сказать, что в других странах, которые имели опыт тоталитарного периода, конструкция современного мира держится не на обломках этого режима, а на чем-то другом?
Я думаю, что для многих стран этот процесс