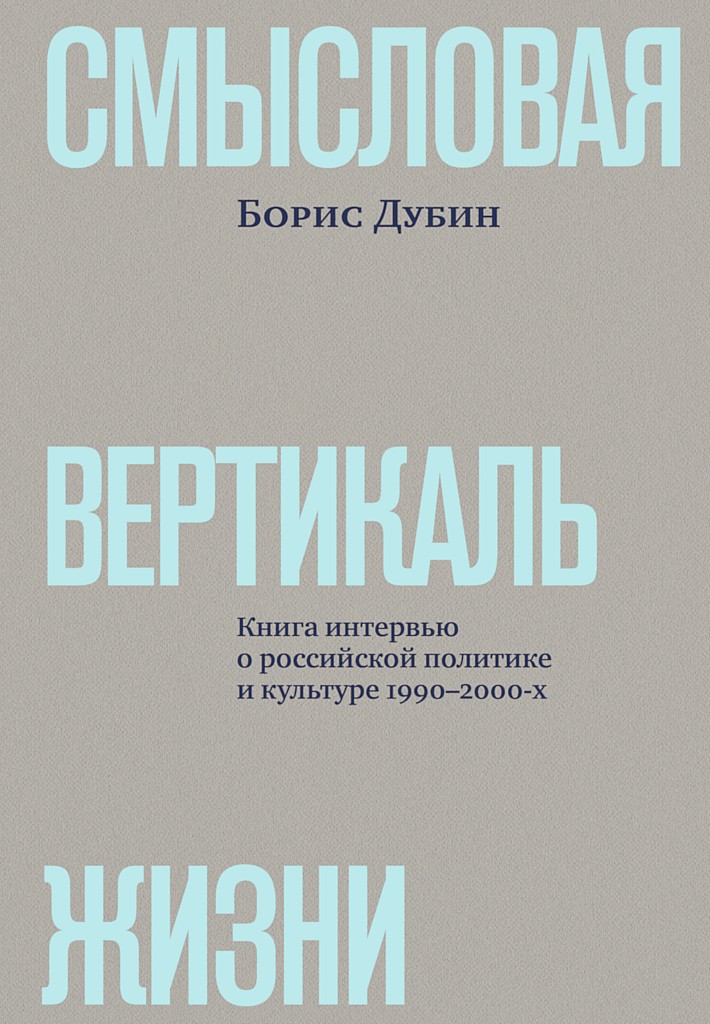мнимости, уравновешивающая всю «пирамиду» негатива?
Да, и в этом смысле это совершенно несовременная фигура. Президент развитой страны отвечает за строго определенный участок исполнительных полномочий. У нас это сверхфигура, которая может всё. Раньше это навешивалось на Ельцина, теперь — на Путина. Это свойство нашего сознания — присутствие человека, который отвечает за всё. Сначала мы его рождаем в своей голове, а потом находятся реальные люди, которые занимают эти места. Необязательно им соответствуя.
Еще какие позитивы?
Армия и церковь. Армия после первой чеченской войны была прочувствована, как жертва: «Наших ребят убивают». С тех пор к ней высокое доверие. Большинство при этом сознает, что реальной силы у нее нет. И в общем, не хочет, чтобы эта сила была. Скорее, тут тоже воображаемый институт, который в наилучшей степени воплощает порядок, как его понимает большинство. Чтобы сверху вниз, чтобы внизу все одинаковое, чтобы приказ. Это модель порядка, поддержанная к тому же памятью о войне как главном и единственном завоевании нашего, XX века. Победили фашизм и спасли мир. Это тоже навешивается на нынешнюю армию. Плюс церковь. Несмотря на то что даже люди, называющие себя верующими, в церковь не ходят. Это три воображаемые конструкции. Все остальное — партии, суд, милиция, да что ни возьми, — находится в области сильного недоверия. Одно как бы дополняет другое. Все плохо, но есть сверхфигура, которая это плохое уравновесит. А с другой стороны, увеличена нагрузка на межчеловеческие отношения, в которых человеку хоть что-то подвластно. С помощью силы, денег, родства, знакомств, но все же отвечать за свою жизнь, не дать ей обрушиться.
С точки зрения логики наша жизнь производит впечатление абсурда. Но, видя иную, более «правильную» жизнь, многие из нас внутренне ее отторгают. Может, само «существование в риске» является ценностью этой российской жизни?
Нет, я думаю, что Россия как «общество риска» — это ярлык, навешиваемый западной социологией и политологией. Им видится риск в том, что для нас означает неуверенность в последствиях своих действий. Ты не можешь проследить их до конца. Не можешь гарантировать результат. Нет опоры на формальные институты общества, которые гарантировали бы игру по правилам. Когда я делаю нечто таким-то образом и гарантированно получаю в далеком будущем такой-то результат. Этого нет. Человек может решать только ближайшие задачи, но не выстраивать общую жизненную стратегию. Достаточно представить жизнь людей, начинающих свое дело и вступающих в область, не очень обеспеченную законом. Она легко переходит из законной области в незаконную, полупреступную. Границы размыты. Что будет завтра, неизвестно. Отсюда выход: хватай, что можно, сегодня. Отсюда тактика: нахальство — это второе счастье. Веди себя так, как будто имеешь на это право. Это тактика блефа, а не расчета. Если здесь и есть привкус риска, то это не риск игры, а риск непроясненной жизненной траектории. У человека не слишком большой запас ресурсов. Слабость формальных связей, на которые он может опереться. Слабая обеспеченность моральными оценками, ценностями самой культуры. Ты можешь что-то делать, но — «с черного хода». Пока эти протоптанные дорожки не станут законными, у человека не исчезнет чувство, что он перебегает жизненное пространство не по закону. Между тем запрет на многие эти дорожки пришел из вчерашнего и позавчерашнего дня. Но косные институты и наши собственные привычки держит их в качестве запретных. Отсюда постоянное чувство вины от их нарушения, от неподзаконности своего существования. Томление оттого, что ты не знаешь, что из этого выйдет.
Стоп, я понял. Отсюда то, что именно инфантильное, внесистемное поведение кажется нам естественным и нормальным. А люди, играющие свои солидные роли начальников, кажутся какими-то умственно ограниченными квадратами?
Возможно. В любом случае для нашего общества характерно невзрослое состояние. Это не риск, а подростковая неуверенность в своем будущем.
Растворение в истории
Подростковая неуверенность в своем будущем не касается ситуации социологии как науки?
Скорее, это характерно для ситуации конца 1980-х — начала 1990-х годов, когда в России возник ажиотажный спрос не столько на социологию, сколько на цифру, которую можно было использовать в собственных политических целях. Я не обсуждаю, какими были цели. Но за цифру хватались обе стороны. Тогда сложилось то понимание социологии, которое, к сожалению, держится до сих пор: сколько людей одобряет то или иное, сколько проголосует зa и т. д.
А есть что-то еще? — спрошу наивно как человек, который словно не изучал социологию в университете.
Социология, конечно, совсем другая вещь. Сейчас, когда Россией явно пройден исторический виток, цифры как раз можно было бы отложить в сторону. И думать над тем, что же это за общество? Как оно живет, как работает, как соединяется с тем, которое было до 1985-го года, до 1934-го года, до 1917-го? Одно ли это общество? Кто его составляет? Как себя чувствуют люди, что ими движет? Каковы ближайшие перспективы, о которых можно говорить реально, а не гадать на кофейной гуще. Я не могу сказать, что такой социологии нет. Ею занимаются мои коллеги — Юрий Александрович Левада, Лев Дмитриевич Гудков, ВЦИОМ в целом, еще есть ряд исследователей, которых интересует такой подход.
Очень многие боятся этой расплывчатости, говорят как раз о непрофессионализме того, что выходит за границу конкретной цифры. Маленькая, но своя.
И думаю, задача сейчас не в том, чтобы поймать цифру. Я помню первую невероятную радость, когда пошли цифры, и мы увидели, что же реально происходит в обществе. Это была осень 1988 года. Только-только начало что-то сдвигаться. И радость цифрам накладывалась на общее понимание того, что эти цифры значат. А потом это общее понимание начало усложняться и распадаться. Перспектива у научной социологии есть. Она нужна, она будет делаться. Но нет социального запроса на нее. Перестав быть напрямую интересной власти, она отчасти потеряла в своем социальном престиже. И почти ничего не набрала в статусе серьезной науки, когда люди поняли бы, что социология — это не просто цифры, а понимание того, что с ними происходит, как они реально живут. К тому же в самой социологической среде много говорится несправедливого — о продажности опросов, о неточности цифр, о том, что те берутся «с потолка». Это неправда.
И все-таки какой будет социология 2000-х годов?
Она будет смыкаться с историей, чтобы разобраться, откуда мы шли, куда пришли, были ли альтернативы, какая цена нами заплачена? С другой стороны, то, о чем мы говорили, социология повседневных отношений, социальных сетей, малых дел. Здесь нам еще предстоит выработать понятия, которые работали бы для российского общества. Классические западные понятия напрямую на российское