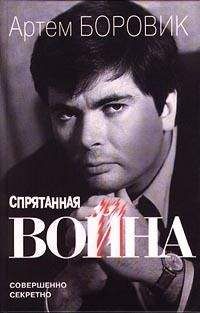«Образ врага»
…Кажется, легче согнуть ствол автоматической винтовки M16, чем поднять голову.
— Хорош дрыхнуть! Просыпайтесь! — орет негр-сержант, ворвавшись вместе с ветром вовнутрь. Крючковатым пальцем он оттягивает воротник от кадыка размером с кулак, ворочает африканскими, с кровавым подмесом, белками, шумно дышит, стучит каблуками по доскам пола.
— Эх, — раздается со второго этажа койки, — всхрапнуть бы еще часок…
Я усилием воли навожу глаза на резкость: это Вилли. Я познакомился с ним вчера, когда вернулся в казарму, проводив Энн.
— Вилли, ты как? — интересуюсь я.
— Как лайнер на взлете, — он делает плавное движение рукой вверх, — башка уже в небесах, а задницу от земли все никак не оторву: сила притяжения, так ее и разэтак! Но ведь сержанту не объяснишь! Он зол и не сентиментален. У вас они тоже такие?
— Абсолютно!
— Я так и предполагал. Нет, не коммунисты и не капиталисты правят миром. Сержанты!
Вилли, по-моему, самый юморной малый в роте. Эдакий циник-людовед: все про всех наперед знает. Пока лишь я для него крепкий орешек. Но уже, видимо, и я взят на прицел его M16, магазины которой заполнены не патронами, а бронебойными шутками.
Ребята заправляют койки. Трут кулаками глаза. Словно заново привыкают к миру.
Вилли остервенело трет зубы щеткой, словно пытается содрать окалину. Но сквозь плотно сжатые челюсти и волдырящуюся зубную пасту он умудряется напевать. Так, для понта:
Э-гей баба-риба,
Э-гей баба-риба!
Как хочется мне, чтобы все девчонки
Были пирожными на прилавке.
И если б был кондитером,
Я ел бы их в любом порядке.
Э-гей баба-риба,
Э-гей баба-риба!
Как хочется мне, чтобы все девчонки
Были колоколами.
И если б был я звонарем,
Звонил бы в них часами.
Допевает он эту песенку, натягивая форму и влезая в бутсы:
Э-гей баба-риба,
Э-гей баба-риба!
Как хочется мне,
Чтобы все девчонки были
Кирпичами,
И если бы был строителем я,
Укладывал бы их своими руками!
Собственно говоря, то не просто «солдатская шуточно-подпольная», нет. Это строевая песня, под которую они здесь маршируют.
Вилли запихивает обратно в железный узкий шкаф бритву, зубную щетку, полотенце, присыпку для ног и захлопывает дверцы, с внутренней стороны которых — туда еще не пробрались вездесущие глаза сержанта — ему подмигивают вырезанные из журналов обнаженные красотки. Вилли мчится во двор.
Лайнер взлетел.
Трамбуя ботинками землю, солдаты строятся. Сержант уже ждет Вилли.
— В чем дело, рядовой? — Сержант зло изгибает бровь.
— Рядовой Джонсон явился, — не совсем уверенно говорит Вилли. Сержант опять оттягивает воротник от кадыка, нервно поводит плечами: видно, Вилли не по форме доложился.
У меня в памяти всплывает моя родная учебка. Наш прапорщик в таких случаях кривил рот, скалил зубы: «Является черт во сне, а рядовой что делает?» — «Прибывает, товарищ прапорщик! Он прибывает!» — «Прибывает поезд, а рядовой что делает?» Это могло продолжаться до бесконечности.
Приблизительно то же самое происходит и здесь.
Вилли уже стоит в строю слева от меня. С него все как с гуся вода. Зло ощерив зубы, он, видно, крепко про себя ругается. Потом вдруг остывает, шепотком спрашивает:
— Ты, говорят, брал интервью у командира форта? Он умный?
— Он лысый! — Парень справа опережает меня с ответом.
Сдавленный смех.
…Четыре часа утра. Зябко. Хочется спать. Идем в столовую. В такую рань завтрак кажется насилием. И все же бекон с яичницей, апельсиновый сок, поджаренный хлеб и пончики за десять минут перекочевывают с тарелок в солдатские желудки. Горячий черный кофе, будоража сонные мозги, теплом разливается по телу. Теперь хоть внутри не так холодно.
Строем идем восемь километров. На ходу втираю в кожу лица предписанную армией маскировочную «косметику»: зеленую и серую краску. Темные тона — на выпуклые части лица. Светлые — на вдавленные. Теперь мы все одной расы — пятнистой. Негра от белого не отличить. Как ни странно, но многие здесь верят, что с этим нововведением в армии поубавилось инцидентов на почве национальных предрассудков.
Чеканя шаг, сержант запевает, солдаты дружно подхватывают:
Еще вчера водил я «кадиллак».
Взамен него таскаю нынче я рюкзак!
Э-э!
У-а!
Ухаживал я за одной красавицей когда-то,
Теперь — вместо нее —
Хожу в обнимку с автоматом!
Э-э!!
У-а!!
Слева и справа медленно, в такт нам, маршируют, уходят назад леса. Время от времени мимо проносятся военные грузовики, обдавая нас гарью. Вот показалась М-3 («брэдли»).[15] Из-под ее гусениц рвется во все стороны рыжая горькая пыль. Своими фарами она слепит нас, кромсает жидкую предрассветную тьму.
— Стало быть, ты советский? — спрашивает Вилли, хотя прекрасно это знает. — Для тебя надо срочно придумать особую строевую. Скажем, так:
Когда-то гонял я на ЗИЛе,
Теперь таскаю его на спине!
Э-э!
У-а!
Он еще раз повторяет этот куплетик, потом спрашивает:
— У вас ведь есть машина ЗИЛ?
— Не у меня.
Опять раздается зычный сержантский баритон с легкой примесью хрипотцы. Сержант явно забивает рык уже почти растворившегося в пепельной дымке «брэдли». Ребята подхватывают. Голоса их, словно ручьи, переплетаются, постепенно сливаясь в один мощный поток:
Эй, солдат! Послушай, брат, меня.
Не горюй, нет нужды рыдать
И вспоминать былое —
Все равно ведь Джоди присвоил себе
Твой «кадиллак»
И все остальное…
— Кто такой этот Джоди? — спрашиваю Вилли, тщась превозмочь громыхание сотен ботинок.
— Большая сука. У вас Джоди тоже есть. Только имя его звучит иначе. Солдаты так называют парня, который кадрит и в конце концов уводит твою девчонку, пока ты топчешь пыль на военных базах. Потом она присылает тебе письмо «Дорогой Джон!». Джоди… Они водятся во всех странах…
— «Дорогой Джон», ты сказал?
— Именно. Американский солдат окрестил так то самое «послание» от любимой, в котором она дает ему отставку и сообщает, что встретила «настоящего человека», выходит за него замуж… Ну и все такое в том же духе. Если честно, я сам был Джоди до армии. Но в данное время мы с этим типом по разные стороны баррикады.
Жердястый парень в одном ряду со мной, но чуть левее, кивает Вилли. В знак согласия. Медвежковатый увалень наискосок справа, каждый шаг которого сотрясает матушку Землю, мрачно сводит к переносью глаза и резким щелчком безымянного пальца сбивает с кончика носа повисшую каплю пота. Он делает это с такой ненавистью в глазах, словно она и есть Джоди.
Рюкзак мой трепыхается промеж лопаток. Весит он со всем своим содержимым, включая спальник, около пятидесяти фунтов. На груди позвякивают «собачьи жетоны».
— Слушай, — спрашиваю я Вилли, — и сколько ты собираешься шагать?
— Еще минут тридцать.
— Я не про сегодня. Я про жизнь. Пять лет? Десять?
— Не решил. Зависит от того, какое настроение будет под конец контракта. Я завербовался на три года. Может, продлю. Может, в колледж пойду. Понимаешь, после двадцати лет службы в армии ты получаешь пенсию в размере 50 процентов твоего последнего оклада. После тридцати лет в размере 75 процентов. Поглядим…
Вдруг, словно долго и мучительно выходивший осколок времен «холодной войны», прорезалась мысль: случись настоящая, всамделишная война, — что, если судьба сведет нас во второй раз, точно так, как, не спросясь, свела нас сейчас, но при иных обстоятельствах, когда мы будем, выражаясь его же словами, «по разные стороны баррикады», — неужели он, этот славный малый Вилли, с которым мы так быстро закорешились, попрет на меня, а я — на него, в штыковую? Неужели мы будем калечить друг друга, кромсать, колоть и убивать?
Я гляжу на него, он — на меня. И, кажется, думаем мы об одном и ужасаемся одной и той же мысли. Ледяная стена вырастает между нами. Мы оба молчим, набычась. Тяжелая, настоянная на зле, дурманящая голову кровь пульсирует в висках.
Страшно, нелепо и безумно!
Или это солнце виновато? С его кровавым восходом все предстало вдруг в ином свете. Южная, всепроникающая радиация? Ее воздействие на воспаленный от жары, небывалых впечатлений и недосыпа мозг?
Ведь совсем недавно все виделось иначе. А сейчас — кругом одни враги. А ты — в их логове. Один-одинешенек. Холодно становится от мысли этой.
Надев ботинки американского солдата, кем ты стал? Врагом самому себе? Даже материя их пятнистой зеленой формы действует теперь как сильный аллерген: волосы на руках дыбом встали, коже от соприкосновения с ней больно, ее точно «ломит».