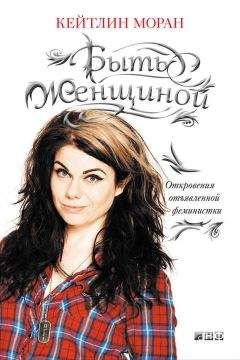На этот раз я не сплю. Вся процедура оказывается неприятным сюрпризом. Мне кажется, раньше я задумывалась только об одном аспекте, чисто «медицинском», и все, что представляла себе, – врачи, просто делающие свою работу, бесстрастно и быстро; сама процедура тоже точная и быстрая. Теперь я лежу на кровати – последняя из очереди, – смотрю на врачей и вижу людей, которые провели слишком много времени, делая неприятные вещи, исправляя ошибки других.
Вы хотели стать врачами, чтобы помогать людям и чувствовать удовлетворение в конце рабочего дня, думаю я, наблюдая за ними, пока медсестра держит меня за руку. Но я сомневаюсь, что к концу дня вы испытываете это чувство. Вы выглядите так, как будто люди постоянно вас разочаровывают.
Аборт сам по себе тоже отличается от моих ожиданий, он оказывается и болезненным, и довольно грубым. Шейку матки расширяют вручную с помощью чего-то вроде храпового колеса. Потом вставляется зеркало, и начинается аборт – в сущности просто дробление материала ложкой. Это вспышки мучительной боли. Как будто желток яйца протыкают зубочисткой, думаю я.
Это очень болезненно – как пятичасовые роды. Обезболивание оказалось абсолютно бесполезным, но жаловаться на боль, учитывая то, что я делаю, кажется неуместным. Но если вы сами считаете, что не должны испытывать боль во время аборта, персонал вроде бы так не считает.
– Вы молодец, – говорит медсестра, очень крепко держа меня за руку. Она добра, но в то же время, как и все остальные, уже мысленно надела пальто и торопится к выходу. Она предвкушает выходные. Она уже далеко.
Затем врач берет вакуумную кюретку, чтобы высосать содержимое моей утробы. Чтобы понять, что при этом ощущаешь, представьте, что это проделали с вами с помощью пылесоса. Много месяцев после этого я неоднократно возражала против покупки автопылесоса Black & Decker.
Весь процесс занимает, может быть, минут семь. Это быстро, но вы с несоразмерным нетерпением – и тоской – ждете, когда из вас вытащат все инструменты и все руки и позволят вам тихо прийти в себя и залечить раны. Вам хочется, чтобы все от вас отвалили. Все.
Врач выключает пылесос. Затем включает снова и проходится еще разок напоследок, как делаете вы, когда, пропылесосив гостиную, решаете заодно освежить диванные подушки.
Наконец он заканчивает, и я испускаю невольный возглас: «Ах!», – когда его рука выходит из меня.
– Видите! – с уверенной улыбкой говорит он. – Совсем неплохо! Дело сделано!
Потом смотрит вниз на блюдо, на котором лежит все, что было внутри меня. Заинтересовавшись чем-то, подзывает коллегу, который моет руки.
– Взгляни-ка! – он указывает на поднос.
– Ха-ха-ха, необычно, – отвечает другой.
Они оба смеются, пока блюдо не уносят. Снимают перчатки, и начинается уборка. День закончен.
Я не хочу спрашивать, что именно они видели. Может, сумели определить, что он гей, даже на таком раннем сроке.
Лучший вариант – что он был с такими патологиями и беременность окончилась бы выкидышем в любом случае.
Худший – возможно, нечто там на подносе изо всех сил борется за жизнь. Возможно, удача покидает его навсегда, пока я лежу здесь, чувствуя себя бледной, как бумага, снаружи и красно-черной внутри, как испорченное мясо. Это худшее из всего. Самое плохое. Как жаль, что врачи не заткнулись.
Потом вас увозят в соседнюю палату – «послеоперационную», и вы лежите в кресле с откидывающейся спинкой, завернутая в махровый халат. Вам предлагаются журнал и прохладительные напитки. В углу стоит пальма в горшке.
Девушка из Ирландии уходит через пять минут – она должна успеть на автобус, чтобы не опоздать на паром. Она идет с трудом. Совершенно очевидно, что она не должна была приезжать в другую страну, чтобы вернуть себе свою жизнь. Мне интересно, видели ли когда-нибудь ирландские судьи, как такая вот бледная женщина отсчитывает деньги возле регистрационной стойки в чужой стране, где она не знает ни души, а затем истекает кровью всю дорогу от Эссекса до Холихеда. Интересно, одобряет ли ее отец закон, запрещающий аборты, – ему ведь в голову не может прийти, что это имеет к ней какое-то отношение. Возненавидел бы он этот закон, если бы узнал, что это из-за него она оказалась здесь?
Женщина постарше, беззвучно плакавшая в холе, все еще плачет. Все мы словно бы пришли к молчаливому соглашению делать вид, что нас здесь нет, и никто не смотрит ей в глаза. Когда мы долистали журналы, прошел 40-минутный «восстановительный период», и медсестра говорит:
– Вы можете идти.
И мы уезжаем. Мой муж неаккуратно ведет машину, потому что очень-очень крепко держит меня за руку. Я говорю: «Наверное, нужно поставить спираль», – и он отвечает: «Да» – и сжимает мою руку еще крепче. Конец дня.
Учитывая произошедшее, диким кажется утверждение, что это счастливый конец. Но это так. Все статьи об абортах, которые я читала, непременно завершались печальной сентенцией о том, какой след оставила эта процедура в душе женщины. Даже если статья писалась с симпатией к женщине, автор считал необходимым отметить, с какой печалью она встречает каждую годовщину аборта и как у нее внезапно хлынули слезы в тот день, когда ребенок должен был родиться.
Предполагается, что, хотя женщина способна разумно рассудить, что не может оставить этого ребенка, какая-то ее часть все равно в это не верит и безмолвно отмечает события, связанные с ребенком, который должен был у нее появиться. Вроде как женские тела не отказываются от своих детей так легко и покорно. Сердце помнит их всегда.
Я тоже думала, что так будет. Но ничего этого не было. На самом деле все совершенно наоборот. Я до сих пор жду, когда на меня обрушатся неизбежные горе и чувство вины – грудь вперед, стою наготове, – и ничего. Я не плачу при виде детской одежды. Не чувствую ревности или тихой печали, когда подруги сообщают, что беременны. Мне незачем напоминать себе, что иногда приходится совершать «неправильные» поступки ради «правильных» целей.
Все наоборот. Каждый раз, спокойно проспав ночь, я радуюсь сделанному выбору. Когда младшая вырастает из памперсов, в затылок ей не дышит третий, которого тоже пришлось бы приучать к горшку. Когда к нам приезжают друзья со своими новорожденными детьми, я бесконечно благодарю судьбу, что у меня была возможность всего этого избежать.
После нескольких бокалов я обсуждаю это с подругами, и они соглашаются.
– Проходя мимо детских игровых площадок, я всегда думаю, что если бы сохранила беременность, то до сих пор сидела бы вон на той скамейке, толстая, страдающая от депрессии, измотанная, ожидая возможности начать жизнь сначала, – говорит Лиззи.
Рейчел, как всегда, лаконична:
– Это одна из лучших четырех вещей, которые я когда-либо сделала – после брака с моим мужем, рождения сына и получения займа для переоборудования чердака под фиксированный процент.
Думаю, все эти статьи пытались убедить меня, что мое тело – или подсознание – было бы сердитона меня за отказ от ребенка. Причем эта неосознанная реакция была бы выше, что ли, – более «естественной», более нравственной – в сравнении с рациональным выбором моего сознания. Ведь женщины созданы, чтобы рожать детей, и та, которая не внесла свой вклад в деторождение, должна страдать и каяться.
Но все, что я видела в действительности – и вижу сейчас, спустя годы, – это истории миллионов женщин, пытающихся исправить ошибку, которая могла бы погубить их, а потом просто продолжающих жить. Тихо, благодарно – и в молчании. То, что я вижу, убеждает меня, что это решение только во благо.
Глава 16
Вмешательство в естественный ход вещей
Сейчас я, 35-летняя, считаю десятилетия так же небрежно, как ребенком считала недели. Я стала решительней и эмоционально мягче, но порой кажется, это достигнуто за счет моей кожи, постепенно приобретающей ломкость вафли. «Может быть, коллаген просачивается из кожи в сердце», – думаю я, проводя пальцем по руке и зачарованно наблюдая, как кожа собирается «в елочку». Я втираю в складки крем из масла какао, и они исчезают. Проходит несколько часов, и я вижу их снова.
Моя кожа понемногу становится… зависимой.
Не только кожа меняется не лучшим образом. Похмелье теперь омрачается депрессией. Неловкий поворот на лестнице причиняет боль колену. Мне нужны лифчики на косточках – косточки как телохранители, и эта охрана требуется мне все время. Я вовсе не вымотана, даже не устала, но уже не испытываю прежнего чувства, что могла бы спонтанно станцевать твист в любой момент.
Меня чуть больше, чем раньше, тянет прилечь.
Вторгаются в жизнь первые весомые напоминания о смерти. Родители знакомых начинают болеть. Родители друзей начинают умирать. Начинаются похороны и поминки, на которых я говорю друзьям слова утешения, в то же время тайно утешая себя, что между мной и смертью стоит еще одно поколение. Самоубийство, инсульт, рак – пока что все это удел старших. Моего поколения эти бедствия пока не коснулись.