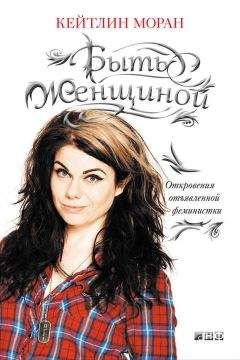Меня чуть больше, чем раньше, тянет прилечь.
Вторгаются в жизнь первые весомые напоминания о смерти. Родители знакомых начинают болеть. Родители друзей начинают умирать. Начинаются похороны и поминки, на которых я говорю друзьям слова утешения, в то же время тайно утешая себя, что между мной и смертью стоит еще одно поколение. Самоубийство, инсульт, рак – пока что все это удел старших. Моего поколения эти бедствия пока не коснулись.
Но как бы получая инструкцию на будущее, я наблюдаю за старшими, скорбящими у могил, в церкви, в крематории, до странности похожем на общественную сауну. Скоро я буду непосредственно участвовать в ужасных сценах прощаний.
Скоро я, посмотрев на свои руки, пойму, что они похожи на руки моей бабушки и что кольцо, которое блестело все эти годы – без каких-то стараний с моей стороны, – стало антиквариатом. Я перестала быть по-настоящему молодой. Теперь будет остановка лет на десять, а дальше я начну стареть.
Зима, Лондон, еще одни поминки. Умер удивительный человек, и я пришла засвидетельствовать свое почтение. Он был успешным, его любили, и церковь до отказа полна его сверстниками. Я никогда прежде не была в компании такого множества людей старшего поколения, таких влиятельных.
Получив приглашение на поминальную службу, я была польщена оказанной честью. Но и очень нервничала. Алан принадлежал к выдающемуся социальному кругу – самому воплощению Лондона 1960-х, всего передового и умного, что на протяжении многих лет формировало и правящие круги XXI века. Бывшие и нынешние руководители BBC, бывшие министры внутренних дел Великобритании, редакторы газет. Около полудюжины лордов и леди. Дэвид Фрост. Я никогда не бывала в обществе такого количества исключительных, могущественных женщин.
Вокруг церкви толпились папарацци, непрерывно снимая прибывающих. Толклись охотники за автографами – не понимающие, насколько нелепо просить погруженного в скорбь сильного мира сего подписать книгу «С наилучшими пожеланиями!» и добавить поцелуи.
Внутри было неожиданно тихо, пришедшие тесно расположились на скамейках и верхнем ярусе галереи. Пальто от Prada, Armani, Dior. Телячья кожа сумок и обуви, кремы для рук с запахом розовых лепестков. Вся церковь пахнет богатством. Вот оно, воплощение респектабельного, неуязвимого, вечного английского истеблишмента. К этому я была готова.
То, к чему я не была готова, – это лица. Женские лица. Мужские были точно такими, как вы их себе представляете. Мужчины, будь то знаменитые или неизвестные, выглядели – да просто мужчинами. Людьми 40, 50, 60 лет. Обеспеченными, ухоженными, уверенными в завтрашнем дне. Мужчинами, которые проводят отпуска в теплых краях и любят джин.
Но женщины! Да они же все одинаковые! За исключением нескольких молодых, от двадцати до тридцати с небольшим – эти выглядят нормально. Но как только возраст подбирается к 35, 36, 37 годам, появляются первые элементы стандартизации. Рты, уголки которых «забыли» чуть-чуть опуститься, как это обычно случается, – губы, выпяченные вопреки здравому смыслу, сердитые ухмылки. Туго натянутые блестящие лбы. Какая-то неуловимая – но несомненная – неправильность со щеками и у челюсти. Постоянно распахнутые глаза – будто их обладательницы посетили клинику на Харли-стрит и только что получили счет на все услуги.
Создается впечатление, что горничная из Восточной Европы выстирала и выгладила их платья, пальто и лица, все на одном дыхании. И что когда эти женщины в 11 вечера ложатся спать, их лица проветриваются в прачечной на вешалках розового дерева, опрысканные кондиционером для белья с запахом вербены.
Я оглядываюсь вокруг и вспоминаю сцену из фильма «Племянник чародея», когда Полли и Дигори находят банкетный зал, где десятки королей и королев, все в коронах, сидят за длинным столом, скованные колдовством.
Дети идут вдоль стола и замечают, как постепенно меняются лица сидящих властителей – от «добрых, веселых, дружелюбных» на одном конце стола к встревоженным, беспокойным, неустойчивым, со следами времени и страстей в средней части и так до противоположности – «самым агрессивным», прекрасным, но жестоким.
Именно так выглядят женщины в церкви Сент-Брайд на Флит-стрит. За исключением того, что они не кажутся жестокими, холодными или расчетливыми.
Вы путешествуете взглядом через десятилетия – от безмятежных двадцатилетних девочек к гранд-дамам в возрасте 40, 50 и 60 лет – и подмечаете, ко всему прочему, что лица присутствующих женщин с годами становятся все более испуганными. Они, такие привилегированные и благополучные! В то же время переносящие такие болезненные, дорогостоящие процедуры… Да церковь полна страха! Это особый женский страх. Источник адреналина, который гнал их в кабинет пластического хирурга, к послеоперационной палате и забинтованным лицам.
Я не знаю, чего именно они боялись – уходящих мужей, молодых женщин, всегда готовых их заменить, безжалостных фотокамер или просто усталого разочарования перед зеркалом в ванной утром, – но все они выглядели встревоженными. Они потратили много тысяч фунтов, чтобы выглядеть в прямом и переносном смысле окаменевшими.
В общем, в тот день я наконец поняла всем своим существом, что делать операцию – сумасшествие и ужасная ошибка. Мало того что у всех этих женщин буквально на лбу написано, что они сотворили нечто безумное и очевидно продиктованное страхом, – казалось, их мужья, партнеры, братья, сыновья и друзья-мужчины, как ни странно, их героизма в упор не видят. Ониничего такого с собой не делали. Они при этом присутствовали, они с этим жили, но жили, очевидно, в совершенно другом мире. Что-то беспокоит – глубоко беспокоит – этих женщин, то, от чего их мужчины отмахиваются, как от докучливых насекомых. Как я уже говорила, выявить сексизм очень просто – достаточно задать вопрос: «Вежливо это или нет?» Тем же способом можно определить, не оказывается ли на женщин в настоящее время некое женоненавистническое социальное давление. Нужно просто спросить себя: «А делают ли это мужчины?»
Если не делают, то, скорее всего, перед вами именно то, что мы, радикальные феминистки, называем «полнейшая гребаная фигня».
У нас есть реальная проблема – мы все умираем. Каждый из нас. Каждый день клетки ослабевают, волокна растягиваются и сердце приближается к последнему удару. А мы при этом тратим дни как миллионеры: неделю здесь, месяц там, прожигаем по случаю, пока от всего нашего богатства не останется два медяка на глазах.
Лично мне нравится то, что мы умрем. Именно поэтому нет ничего более волнующего, чем просыпаться каждое утро и сознавать: « Вау! Вот она, жизнь! Я живу!»Это здорово помогает сосредоточиться на важном. Это заставляет страстно любить, интенсивно работать, дает понимание, что в силу устройства мироздания у вас действительно нет времени сидеть в трениках перед телевизором и смотреть «Магазин на диване».
Смерть – не освобождение, а стимул. Чем больше внимания вы уделяете своей смерти, тем правильнее проживаете жизнь. Моя традиционная заключительная тирада – после слезных жалоб, что закрыли потрясающую забегаловку на Толлингтон-роуд, где подавали маринованные яйца, – как раз о том, что люди все еще верят в загробную жизнь. Я искренне убеждена, что это самая большая философская проблема человечества. Даже явно нерелигиозные люди верят, что встретятся с бабушкой и собакой, когда наконец сыграют в ящик. Все думают, что получат вторую жизнь.
Но вера в загробную жизнь полностью отрицает ваше настоящее существование. Это как коварное и дестабилизирующее психическое заболевание. По поводу каждого дня – каждого действия, каждого слова – вы думаете, что на самом делене имеет значения, если вы что-то испортите в этот раз, потому что сможете все переиграть в раю. Вы помиритесь с родителями, и станете лучше, и сбросите эти лишние килограммы на небесах. И научитесь говорить по-французски. В конце концов у вас будет время! Целая вечность! И у вас будут крылья, и всегда будет солнечно! Тогда, конечно, совершенно не важно, что вы делаете сейчас. Тогда вся эта жизнь – лишь унылый зал ожидания, где вы просто побудете 20 минут, совсем без крыльев, вынужденныеползать, как черви.
Вас удивляет, почему люди так апатично, так спокойно взирают на любое мировое бедствие, которого можно было бы избежать, – на голод, войны, болезни, превращение морей в желтую мочу, полную консервных банок и презервативов? Вот из-за этого, из-за веры в рай. Эта вера – самый эффективный способ убить время, изобретенный человечеством, за исключением пазлов.
Только когда большинство людей на этой планете поверят – безоговорочно! – что умирают минута за минутой, мы начнем вести себя как разумные, рациональные и сострадающие существа. Как бы ни был действенен призыв «быть хорошим», ужас осознания неудержимого скатывания в бесконечное небытие гораздо эффективнее. Я от всей души желаю всем нам проникнуться страхом. Страх – это мое Второе пришествие. Когда все в мире признают, что умрут, мы действительноначнем шевелиться.