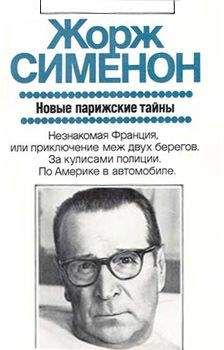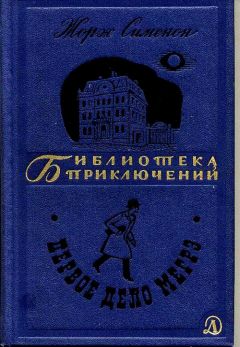Извините меня, дорогой учитель, я погорячился. Я высказываюсь ex cathedra[67], но я защищаю таким образом всю свою жизнь, ведь если я не прав, она для меня потеряна. Во всяком случае, потеряны десять лет, в течение которых мне казалось, что на развлекательном романе я учусь замешивать раствор, а также почти десять лет, в течение которых я хотел прожить все возможные жизни, чего бы мне это ни стоило.
Чтобы не заниматься документалистикой, чтобы никогда не изучать недостающий персонаж. Чтобы в нужный момент у меня в кабинете появился десяток необходимых мне персонажей.
И кроме того, чтобы не нужно было их наблюдать. Наблюдение меня приводит в ужас. Нужно пробовать, чувствовать. Побывать избитым, оболганным; чуть не написал «обворованным». Попробовать все — может, не до конца, но достаточно, чтобы почувствовать. К тому же я посредственность во всем, от садоводства до верховой езды, а в латыни — и вовсе нуль.
Неотступно думать — не о том, что может, а о том, что чувствует человек. И о том, что он говорит, о малейших оттенках его поведения. Если видеть поле, то обязательно поинтересоваться его урожайностью, узнать, как фермер ест, как занимается любовью с женой.
«Купля-продажа», «Назначения» и «Курортная хроника», «Происшествия» и «Бракосочетания», «Кончины» (объявления, составляемые родственниками) — все эти газетные рубрики сами по себе настоящие романы.
Если видеть человека, то обязательно стать на его место, страдать за него. Быть может, наше время мне помогает. У меня есть несколько профессий, которые я смог бы пустить в дело, случись в моей жизни крутой поворот. Я могу быть речником, рыбаком, моряком дальнего плавания, садовником, столяром, кем-то еще. В разговорах с домашними эта тема для меня гораздо более щекотлива, нежели литература. Я хотел бы узнать все профессии, все жизни.
В одном из своих развлекательных романов я вывел героем человека, у которого были дома, разбросанные по всей Франции. Каждый дом соответствовал определенному району, определенной профессии. Входя в любой дом, этот человек влезал в облик и психологию соответствующего района и профессии.
Признаюсь, это моя мечта, и в некоторой степени я ее осуществил. Теперь, когда я облегчил себя столькими признаниями, мне трудно говорить о моих романах. Метод? Он не изменился. Прежде всего, иметь в себе людей (в идеале хотелось бы сказать «всех людей»), прожить их жизни. Страдать их страданиями — хоть немного.
Я далек от этого! Со временем я буду приближаться к своему идеалу.
Но как можно искренне описать зарождение романа? Это самообман — и ничего больше.
У нас с женой есть выражение: «ввести меня в транс». Оно означает, что прежде всего мне нужно отключиться, забыть о своем «я», о всех заботах, чтобы внезапно оказаться среди воспоминаний персонажа, который меня заинтересовал. Иногда это длится час, иногда — дня два, в зависимости от количества моих сиюминутных хлопот, обстановки и т. п. Не знаю почему, но зимой это происходит быстрее, чем летом.
Я начинаю с минимума действия, и роман трогается с места. Трудность заключается в том, чтобы все время, пока длится действие, не выходить из этого состояния.
Ни жизни внутренней, ни внешней. Ничего, кроме удовлетворения физиологических потребностей. И с утра до вечера — неотвязная мысль с редкими передышками за картами, которые позволяют отключаться.
Род добровольного полного отупения.
Еще одно употребительное выражение: «состояние благодати». Сохранять его, чего бы это ни стоило. Если я начал писать под мелодию Баха, то должен слушать ее ежедневно, в одно и то же время. Никаких изменений в распорядке дня. Малейшая неожиданность может все разрушить. Ни почты, ни телефона.
Писать — только два часа утром, остальное время — дисциплина, одержимость. (Я понимаю некоторых ненормальных людей, которых считают сумасшедшими и которые, отведав при определенных обстоятельствах удовольствия, шатаются вновь создать подобные обстоятельства. Я поступаю так же. Не зная, из чего складывается «состояние благодати», я стараюсь ежедневно в мельчайших подробностях воспроизвести все происшедшее накануне.)
Этим объясняется то, в чем меня упрекают: что я пишу только короткие вещи. Это верно. (Не считая трех последних моих романов, которые еще не вышли.) Но это вопрос единого дыхания. Сперва я выдерживал восемь дней (детективные романы), потом одиннадцать, сейчас двенадцать — пятнадцать. Когда же я приступил к «Донадье», я не устоял перед зовом солнца, яхты, спорта, друзей и тому подобного, поэтому моя «Семья Донадье» слилась с «состоянием благодати».
Со временем я, конечно, смогу выдержать и месяц, то есть большой роман. И сумею жить жизнью не только нескольких главных персонажей (вначале он был только один), но и второстепенных действующих лиц.
Вы видите, что никакого феномена здесь нет. Есть просто феномен воли. В этом нет ничего сверхъестественного. Хорошо еще, если я в принципе не ошибаюсь относительно цели!
Если я и придавал какое-то значение «Марии из Пор-ан-Бесен», то лишь по чисто техническим соображениям. Это единственный роман, который мне удалось написать в совершенно объективном тоне. (Это может принести пользу в большой работе. Приятно доказать самому себе, что можешь придать индивидуальность второстепенному персонажу, задача которого — лишь войти и сказать: «Мадам, кушать подано».)
Только этим «Мария из Пор-ан-Бесен» и важна.
По-моему, Терив[68] ошибся. В самом деле, он увидел только технику. И сделал заключение: в книге хороши лишь малозначащие персонажи.
Черт возьми! Тридцать два года я надрываюсь, чтобы заставить естественно заговорить фермера, рыбака — кого угодно. Мне было бы легче заставить людей разговаривать так, как говорю я. Сложный персонаж сделать проще, поскольку писатель, будучи сам априори сложной личностью, чувствует и понимает его лучше, чем кого-либо другого.
Но написать роман о тех, кто живет и не думает — в нашем понимании этого слова!
Это позже. И быть может, это ошибка. До сих пор я шел слишком одиноко, слишком прямо…
Два ваших письма — это перелом. А может, промежуточная посадка. Случай оглянуться назад и посмотреть вперед.
Я теряю нить своих рассуждений.
Итак, роман начат, и я — главный герой. Я живу его жизнью. Работаю по два часа в день. Меня все еще тошнит, как вначале, когда писал «Г-на Гюстава». Я становлюсь глупым и пустым. Сплю. Ем. Жду момента, когда можно будет вновь погрузиться в состояние.
И все.
Потом я не смогу изменить ни страницы. За это меня часто упрекают. Я и сам хотел бы уметь дорабатывать свои вещи. Но я не знаю, как это делается, и еще меньше — каким образом можно что-то исправить.
Или получилось, или нет. Именно так, я ничего не могу с этим поделать.
Быть может, когда-нибудь?
И вот доказательство: когда роман закончен, я его забываю вплоть до имен персонажей; остаются лишь несколько образов — без сомнения, так же, как и у читателя.
Мне кажется, мой новый этап отмечен «Бургомистром из Фюрна», которого я только что отослал Галлимару. Используя выражение Терива, его можно назвать «произведением зрелого мастера», во всяком случае на сегодня.
Но судья из меня плохой. Речь идет не о затраченном труде, а о мастерстве. Я чувствую себя достаточно умелым ремесленником; главный герой мне в самом деле довольно дорог.
Если когда-нибудь мне будет дано переиздать мои сочинения, каждое будет снабжено подзаголовком, который я имел в виду, работая над ними; я был безмерно рад, что вы догадались о них, говоря о музыке.
Например, плохой роман «Змея», написанный в спешке — так уж случилось, — я мысленно называл «Вариации на тему икринки».
Что касается «Белой лошади», то она была навеяна воспоминаниями об изучении немецкого языка и мелодиями Шуберта.
Но все это неважно, не так ли? Я вам очень обязан. Впервые мне представилась возможность высказаться. Пусть я по крайней мере не потеряю вашу дружбу и ободряющий голос.
Умствование меня всегда, всегда страшно пугало. Я иногда думаю, что боги дали человеку эту способность как кару за что-то. Я боюсь этого, стараюсь чувствовать больше, чем думать. А если думать, то не головой, а чем? Трудненько сказать чем! Картина Рембрандта, Ренуара… Пьеска для клавесина или скрипки, написанная Бахом для обучения своих детей музыке…
Видите, что это все смутно, бесформенно, что мне нужны годы и годы, чтобы придать всему этому ясность.
Хватит ли у вас смелости читать меня до конца?
Быть может, теперь, встретившись с вами, мне удастся поговорить с вами просто, как очень часто хотелось; быть может, я забуду о том, что вы мастер, забуду тоску, которую испытывал недавно, перечитав ваши сочинения.
Я забился в угол. Период «интереса к жизни» прошел, я отказался от работы в газетах, связывавшей меня многочисленными обязательствами.