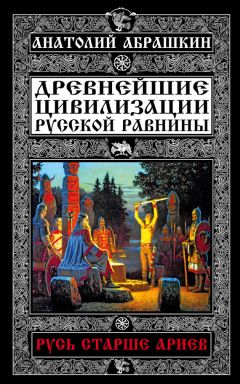Ну так и доставьте себе удовольствие! Суета вокруг Аркаима, помимо всего прочего, доказывает вот что: нам очень хочется иметь конкретное место, где жили предки. Прародину. Кеймцелле. Праколебку. Место, в которое можно было бы совершить сентиментальное путешествие.
Пока я работал над этой книгой, у меня было желание предложить: ну и давайте считать таким местом Аркаим. Он не лучше, но и не хуже любого другого. Но все же Аркаим не очень подходит для этого… слишком много нездорового ажиотажа, слишком много бреда по его поводу выплеснулось за два десятилетия.
Хорошо! Пусть будет другое место. Например, окрестности города Балашова на Волге: крайний восточный пункт, до которого дошли Сверленые Боевые Топоры, люди фатьяновской культуры. Чем это место хорошо?
Во-первых, граница леса и степи. А степь обязательно должна присутствовать в месте для памятника.
Во-вторых, фатьяновцы в отличие от срубников, андроновцев или носителей новослободненской культуры и есть наши непосредственные предки. Причем предки не только славян, но и германцев и бантов.
В-третьих, даже на фоне деяний всех ариев фатьяновцы выглядят особенно героично. Право, они заслуживают памятника.
Мне могут возразить: мол, памятник предкам ставить бы в Германии… В местах, где жили Воронковидные Кубки. Но о памятнике там пусть позаботятся немцы. В конце концов, это их наследие в той же степени, что и наше. А страна принадлежит им, и что в ней ставить, какие памятники — им решать.
Итак, пусть будет точка пространства, где наши предки вышли из леса в степь. К ней имеют отношение и иранцы, и индусы, и армяне, и греки, и турки. Их предки выходили в степь не тут… Где-то на Балканах, в современной Молдавии. Но и в истории их предков было это — выход в еще не очень знакомую, опасно молчащую степь.
Надо создать хорошую инфраструктуру в этом месте. Чтобы можно было остановится в недорогой гостинице, иметь время на сентиментальные прогулки.
Там давно нет деревни бабушки с дедушкой. Давно исчезли и ландшафты, в которых деревенька находилась… Никто никогда не увидит больше тысячных стад зубров и диких лошадей, никто не сможет срубить лиственницу пяти метров в поперечнике. И поохотиться на лебедя вам не удастся — это строго карается законом.
Но кое-что сохранилось — так, намеки на прежнее богатство. Если вам позволяет время, побывайте в этих местах весной, когда бесчисленные стаи диких птиц летят на север и журавли курлыкают в пронзительно мерцающей синеве. Или побывайте в августе, когда все рыночки в селах и городках завалены спелыми плодами, — как было и в бронзовом веке.
Мое предложение обращено не только к россиянам, но ко всем людям, говорящим на сорока разных языках, принадлежащим к шестидесяти семи разным подданствам, живущим на пяти материках. Я обращаюсь к половине современного человечества, потому что нужно же иметь праколебку для всех, кто говорит на индоевропейских языках. На любом из этих языков.
Если на валах древнего фатьяновского городища встретятся испаноязычные индейцы Южной Америки, ирландец, англосакс из Новой Зеландии, неф из США и украинец из Петербурга — это встретились дальние, но родственники. Стоит ударить чарой о чару, вспомнить родство и хотя бы улыбнуться друг другу — все мы оттуда, из этих полуземлянок внутри земляного кольца.
Не забудьте брызнуть немного вина на землю. Не поручусь, что вместе с вами выпьют и древние арии, — но, право, это приобщение к предкам полезно для нас же самих.
Ах да! Каким должен быть сам памятник…
Памятник должен изображать арбу… Двухколесную арбу, и колеса у нее должны быть сделаны из цельных распилов деревьев. Никаких колес со спицами! Ни в коем случае никаких четырех колес! Ободья и спицы появились спустя века после начала расселения индоевропейцев; появление четырехколесной телеги в эти века таилось в неведомой глуби времен. Не надо делать предков умнее и лучше, чем они были, приписывать им несвершенное. Величие сделанного ими не в том, что они имели с самого начала, а в том, что они приобрели.
Итак, запряженная быками арба с громадными, невероятно тяжелыми колесами из цельных стволов. На арбе свалены какие-то узлы — имущество стоящих перед арбою людей. Мужчина положил правую руку на холку быка, левую поднес к глазам; напряженно, тревожно всматривается он в пространство лежащей перед ним степи. В любую секунду дрожащее марево может соединиться в точечки — стая волков, группа неведомых врагов. Чего доброго, точечки окажутся и покрупнее: дикие лошади, быки, медведь или лев.[126]
Мужчина в любой момент готов схватиться за воткнутое в землю копье, за висящий на поясе топор или нож. Это показывает его приземистая, сторожко подавшаяся вперед фигура — напряженная поза воина, кормильца, защитника. Черты лица мужчины трудно рассмотреть: волосы всклокочены, торчат колтунами во все стороны и волной падают На плечи; они перехвачены ремешком; в них торчат травинки и соломинки. Усы спадают на клочковатую бороду, которую отродясь никто не чесал и не стриг, вся нижняя часть лица скрыта. Но видно, что черты лица у него крупные и грубые, — лицо человека, который учился мало и недолго. От мужика исходит явственное ощущение опасности, он грозен, он приковывает к себе внимание, как всякий опасный, крупный зверь.
Возникни опасность — распахнется мохнатая пасть, узловатые кисти рук вцепятся в древко оружия. Он так. и шагнет навстречу всему, что помешает двигаться арбе или создаст опасность для семьи. Даже инстинкт самосохранения не сработает, давно подчиненный железной воле. Если мужчину и сомнут — семья проживет немногим дольше.
На мужчине рубаха, перехваченная пояском. Ткань — вроде современной мешковины. Необходимо изваять скульптуру так, чтобы сразу видно — рубаха несвежая, пропревшая, много раз порванная и зашитая. Не сметь идеализировать! Предки были дикие и грязные, оборванные и грубые. Мужчине лет тридцать пять — поздняя зрелость тех времен.
Возле арбы — женщина чуть помоложе. Изможденная беспрерывными родами, она стройнее мужа, тоньше в кости. Но лицо у нее такое же грубое, неинтеллигентное, а глаза глубоко запали от непроходящей усталости. Лицо легче рассмотреть, потому что волосы заплетены в косы, спадающие ниже пояса. В косы вплетены куски ткани — видимо, это такие ленты. Можно изобразить даму в платке или в головном уборе… Собственно, на голове у мужчины тоже может быть шапка; это неважно, это я предоставляю на произвол строителей памятника.
Но хорошо бы показать, что на шее у женщины — ожерелья из мелких трубчатых косточек, а на руках — костяные браслеты. Ее рубаху можно изобразить разноцветной, состоящей из кусков ткани разной фактуры и цвета, или с передничком поверх рубашки. Это тоже не имеет особого значения, пусть будет произвол скульптора.
Кисти рук у нее длиннее, изящнее мужских, но такие же сильные, со вздувшимися узлами вен. Этими руками переделано невероятное количество самой различной работы. На женщине такая же посконная рубаха из плотной ткани, только длиннее: ей ведь не надо быстро бегать, ей не нужна одежда, которая не мешала бы движениям. Рубаха на ней такая же старая, чиненная множество раз, под мышкой прореха, и торчит пучок волос. Не сметь идеализировать! Не сметь делать вид, что в те времена наши праматери брили подмышки, были чистоплотны и всегда хорошо причесаны! -
К тому же пусть черты лица у нее правильные — но да будет сразу видно, что женщина эта неграмотная, совершенно необразованная, дикая. И пусть черты лица явственно показывают постоянное, ставшее привычным утомление. Много лет, еще с раннего детства, она без перерыва делала работу менее тяжелую, чем мужская, — но работу непрерывную, нескончаемую, неостановимую никогда, ни при каких обстоятельствах. Всю свою жизнь, каждый день она вставала до света, раздувала угли или разводила новый огонь, шла за водой и на открытом огне готовила для всей своей семьи. А пока не надо готовить — пряла, сучила, ткала, шила, стирала. Раз за разом. Каждый день. Дома и в походе. В любую погоду и при любом состоянии здоровья, в том числе и за считанные часы до рождения очередного ребенка. Без праздников или выходных. Жизнь в нескончаемом труде.
Живот у дамы сильно выпирает. Пусть ни у кого не возникнет и тени сомнения, что она беременна месяце на седьмом-восьмом! На руках у нее ребенок чуть старше года. За юбку рубахи держится создание лет трех. Из арбы, едва видный за грудами барахла, высовывается еще ребенок лет шести-семи, девочка. В руке у нее какой-то деревянный обрубок с торчащими ручками-ножками — кошмарная кукла бронзового века. За арбой стоит девочка лет десяти, у нее уже нет никакой такой куклы: уже большая, помощница мамы; ей уже года два как не до кукол.
Между мамой и папой — мальчик лет двенадцати. Такая же сторожкая, пригнувшаяся фигура, такой же взгляд из-под руки. Только рука сразу вцепилась в копье да на лице — жгучий интерес к происходящему: мальчик еще не наигрался, еще не стерлась до конца разница между игрушечным и настоящим копьем, игрой и настоящим приключением.