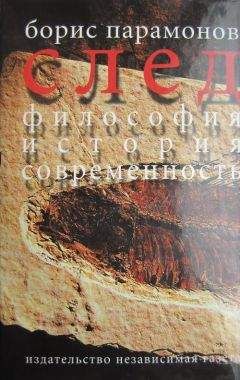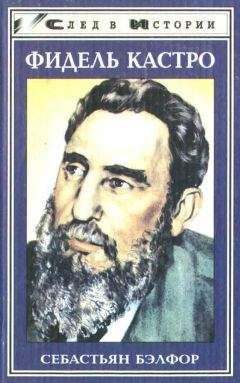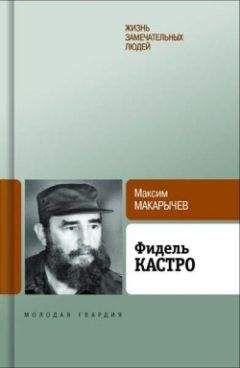К чему я это говорю? Да хотя бы к тому, что атмосфера Лас-Вегаса, так сказать, насквозь семиотична: там люди имеют дело не с реальностями, а со знаками, с самым значимым из знаков — с деньгами. И кажется далеко не случайным, какой-то выразительной аллегорией, что наиболее интересными выступлениями и дискуссиями на русской конференции в Лас-Вегасе были как раз те, что выдержаны в описанной семиотической методологии.
Но под стать предмету и метод. Страсти разгорелись вокруг выступления московского искусствоведа Екатерины Деготь, говорившей о новейших художественных изысках российских поставангардистов. Главными фигурами у нее были Олег Кулик и Александр Бренер. Первый известен тем, что организует перформанс, в котором играет роль собаки, а второй однажды в Москве в Музее изобразительных искусств опростал кишечник под картиной Ван Гога. Впрочем, это уже и не искусством называется, а художественными жестами или стратегиями. Я не могу в подробностях воспроизвести ход мыслей докладчика или аргументы развернувшейся дискуссии, но основной тезис припоминаю: современный художественный жест существует не в сфере искусства, а в моменте его интерпретации. Главным действующим лицом современного художественного процесса становится критик или музейный работник, производящий отбор среди подобного мусора.
Уже после Лас-Вегаса, чувствуя неудовлетворенность содержанием тамошних разговоров, я взял книги Бориса Гройса — участника конференции и признанного специалиста в этих сложных вопросах. Кстати, это именно он вместе с художником Кабаковым рассуждал об эстетических измерениях мусора. Вот что я прочел в его статье «Искусство как валоризация неценного» (валоризация — придание ценности):
Искусство нашего века можно считать симптомом одного из тех приступов негативной теологии, которые на протяжении уже многих столетий <…> потрясают европейскую цивилизацию. Отсюда его моральный ригоризм, борьба с кумирами, любовь к бедному и отверженному как метафорам сокрытого. Религиозный радикальный универсализм всегда проявляется как предпочтение бедного, банального и отталкивающего. Поэтому и сейчас искусство не может не чувствовать своего внутреннего родства с эстетикой бедности, редукции, аскезы. <…> Эстетика бедности сразу опознается как общественно признанная художественная ценность. <…> Рынок искусства торжествует над просто рынком. <…> На традиционном рынке для возникновения ценности необходимо, чтобы нечто было произведено и при этом вызвало спрос. На художественном рынке достаточно выбрать определенный предмет из потока жизни и придать ему ценность в качестве произведения искусства, чтобы она действительно возникла. Тем самым рынок искусства оказывается наиболее наглядной манифестацией магии сообщения ценности: ценность возникает не из труда, не из удовлетворения потребностей, а в результате перевода предмета в другой план, экспонирующий его, меняющий его место в культурной иерархии и заставляющий посмотреть на него другими глазами.
Я чувствую всяческое отталкивание от сюжета, в этих словах описанного, но не могу не признать интерпретационной глубины цитированного текста. Особенно интересно отнесение к негативной теологии. Напоминаю, что это такой способ богопознания, который говорит о невозможности позитивного определения Бога: Он выше всех определений, отвергает все определения, потому что выходит из всех рамок. О Боге можно только сказать, чем Он не является. Позволительно сказать, что нынешняя семиотика есть вариант этого апофатического богословия — она точно так же отказывается от познания абсолютного референта. Результатом такой установки может быть только некий, говоря словами Герберта Маркузе, Великий Отказ. Это вызывает в памяти фигуры античных киников или, еще лучше, христианских юродивых, вроде Франциска Ассизского или Василия Блаженного. То есть культура, отказывающаяся от референта, от соотнесения с сверхкультурными реалиями, логическим своим пределом будет иметь тотальный нигилизм. Как я сказал в какой-то статье, искусство, культура вообще — не только формовщик, но и глина. Вот этот сюжет — так сказать, отказ от глины и замена ее говном — манифестирован всеми этими Куликами и Бренерами, которые в этом качестве действительно кажутся значительным явлением — симптомом какой-то серьезной культурной болезни. Еще точнее: сама культура в этом продлении выступает как болезнь. Где от этой болезни лекарство? Искать ли его в Лас-Вегасе, пафос которого — погоня за деньгами, или, говоря языком семиотики, за означающим без означаемого? И случайно ли это совпадение — проведение русской конференции, продемонстрировавшей высокую квалификацию семиотически образованных участников, в Лас-Вегасе — мировом притоне культурной, то есть знаковой, пустоты?
Предаваясь этим нелегким раздумьям, я спустился в один из многочисленных баров отеля «Экскалибур», чтобы собраться с мыслями за дринком. И вдруг оказалось, что это не просто бар, а как бы галерка некоей аудитории, на сцене которой происходило выступление артистов. Вышли ребята из группы «Next Movement», заиграли и запели. И я почувствовал себя попавшим из мира Сальери в мир Моцарта.
Почему я вспомнил Моцарта, хотя музыка, игравшаяся в Лас-Вегасе, Моцарта отнюдь не напоминала? Сальери я здесь беру в пушкинском смысле: человек, разъявший красоту, поверивший гармонию алгеброй. Современные семиотики в этом смысле все до одного Сальери. А у Моцарта ощущается подлинность, то есть соотнесенность с этими самыми «референтами». Музыканты из группы «Next Movement» тоже были подлинные, из плоти и крови, а не только из нот. Увидеть и услышать их после семиотических разговоров — все равно что попасть из военного коммунизма в нэп (по крайней мере).
Какое отношение имеет культура к плоти и крови? У семиотиков получается, что никакого. Приведу поразившее меня замечание из книги того же Бориса Гройса «Дневник философа»:
…Лакан справедливо заметил, что женщину нельзя раздеть: ее нагое тело представляет собой не в меньшей степени набор символов, нежели любая одежда. Но что же тогда делать? Как «соединиться с предметом»? Либо на это следует оставить всякую надежду, либо одеть женщину так, чтобы символы оказались новы и язык их непонятен. В этом суть погони за модой, составляющей стихию Нового Времени: оригинально одетая женщина представляется в наибольшей степени нагой.
Подобную мысль — и как раз в связи с модой — я встречал у Шкловского; отсюда можно вывести его знаменитое «остранение»: чтобы ощутить предмет, нужно увидеть его в необычном, странном контексте. Помнится, он написал, что Николай Ростов полюбил Соню, когда та на маскараде нарисовала себе жженой пробкой усы. Но Шкловский же говорил (в письме к Оксману) об основном противоречии тогдашнего формализма: призывая к обновленному переживанию бытия, к воскрешению эмоций — что и есть цель искусства, — формализм утверждал в то же время несущественность для искусства каких-либо внеположных содержаний. То есть женщину нельзя раздеть в искусстве, а в жизни можно, ее «предметность» несомненна. И прочитав подобное в цитате из Лакана, я вспомнил, что он был лишен диплома французским обществом психоаналитиков: его обвинили ни более ни менее как в шарлатанстве — на основании таких, например, фактов, как проведение психоанализа в течение пяти минут в такси, куда он, торопясь, пригласил пациента. Этими пятью минутами дело и ограничилось: Лакан объявил пациента излеченным. Я подозреваю, что и в цитированном высказывании Лакан поторопился с выводами, а Гройс поторопился ему поверить.
Конечно, культура строится на подавлении инстинктов, но культуру нельзя отождествлять с полнотой бытия, а современные культурологи семиотической школы провозглашают именно это: нет бытия вне культуры, вне языка. Это современный гностицизм, в психологической основе которого — нелюбовь к бытию, неприятие мира, бессознательное стремление с ним покончить. Надо ли говорить, что такая установка может быть опасной?
Верховный жрец современной философии Жак Деррида однажды написал работу, в которой доказывал, что ядерный Апокалипсис — литературная иллюзия. Самая его возможность — факт языка, вербального обмена. То есть пока мы говорим о ядерной гибели, ее нет (поэтому мы еще и говорим), а если эта гибель произойдет, то говорить уже будет не о чем и некому, следовательно, ее нет и быть не может. Трудно найти более впечатляющий пример отождествления бытия, существования, жизни с их литературными манифестациями.
Это сильно напоминает известное рассуждение Эпикура о смерти. На месте московских учеников Дерриды я бы перевел мэтру стихи Мандельштама: «Неужели я настоящий / И действительно смерть придет?»
Однажды у Ю. М. Лотмана я прочитал статью под названием «О редукции и развертывании знаковых систем (К проблеме „фрейдизм и семиотическая культурология“)». Там была сделана попытка опровергнуть психоанализ при помощи сказки о Красной Шапочке. Почтенный автор утверждал, что эдипов комплекс — вражда ребенка к родителю противоположного пола — иллюзия, проистекающая из бедности детского языка. Услышав эту сказку, он легко отождествит себя с Красной Шапочкой, бабушку с мамой, а на роль волка выберет отца, потому что выбирать ему больше не из чего. Значит, вражды к отцу нет, а есть только ограниченность детского опыта, бедность знаковой системы. Статья занимает примерно шесть страниц, большого, правда, формата. Мне не кажется, что этого достаточно для дискредитации одного из величайших открытий человеческого разума. Это напоминает пятиминутный психоанализ Лакана. Но я знаю, к чему у меня прицепился бы семиотик: к словам о человеческом разуме. Он бы сказал, что разум только собственные структуры и открывает. Собственно, это и сказал Ю. М. Лотман о психоанализе в упомянутой статье: Фрейд вложил в психику ребенка собственный опыт. Вопрос: откуда этот опыт взялся у самого Фрейда?