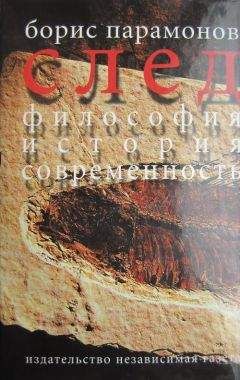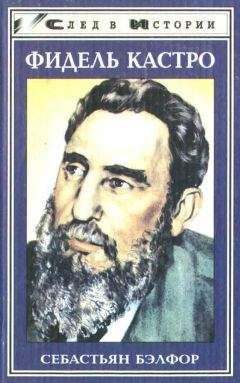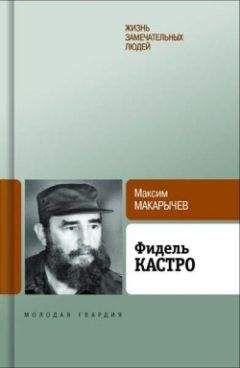Это сильно напоминает известное рассуждение Эпикура о смерти. На месте московских учеников Дерриды я бы перевел мэтру стихи Мандельштама: «Неужели я настоящий / И действительно смерть придет?»
Однажды у Ю. М. Лотмана я прочитал статью под названием «О редукции и развертывании знаковых систем (К проблеме „фрейдизм и семиотическая культурология“)». Там была сделана попытка опровергнуть психоанализ при помощи сказки о Красной Шапочке. Почтенный автор утверждал, что эдипов комплекс — вражда ребенка к родителю противоположного пола — иллюзия, проистекающая из бедности детского языка. Услышав эту сказку, он легко отождествит себя с Красной Шапочкой, бабушку с мамой, а на роль волка выберет отца, потому что выбирать ему больше не из чего. Значит, вражды к отцу нет, а есть только ограниченность детского опыта, бедность знаковой системы. Статья занимает примерно шесть страниц, большого, правда, формата. Мне не кажется, что этого достаточно для дискредитации одного из величайших открытий человеческого разума. Это напоминает пятиминутный психоанализ Лакана. Но я знаю, к чему у меня прицепился бы семиотик: к словам о человеческом разуме. Он бы сказал, что разум только собственные структуры и открывает. Собственно, это и сказал Ю. М. Лотман о психоанализе в упомянутой статье: Фрейд вложил в психику ребенка собственный опыт. Вопрос: откуда этот опыт взялся у самого Фрейда?
Я хочу сказать, что, подменив жизнь ее культурным отражением, мы подвергаем себя опасности чего-то не заметить в жизни, причем подчас самого интересного и самого важного. Приведу еще один пример культурного, слишком культурного истолкования одного из культурных феноменов. Речь пойдет о трактовке прозы Бабеля в книге о нем А. Жолковского и М. Ямпольского, вернее, только об одном из анализов, сделанном Ямпольским. Это касается рассказа Бабеля «Справка» (расширенный вариант которого известен под названием «Мой первый гонорар»). Напомню содержание рассказа. Молодой человек, желая познать любовь, берет проститутку, но она не уделяет ему должного внимания, потому что у нее другие дела. Когда, наконец, доходит до главного дела, рассказчик теряет к нему интерес и, пытаясь оправдать себя в глазах женщины, выдумывает историю о том, как он был гомосексуальной проституткой. Это вызывает у его партнерши прилив теплых чувств, и желанная акция наконец совершается, но опять же в качестве некоего гомосексуального действа — на этот раз сеанса лесбийской любви. «Сестричка моя бляха» — называет рассказчика проститутка Вера.
И вот что пишет об этом М. Ямпольский:
Одна из самых примечательных черт бабелевских сюжетов — отношения рассказчика с женщинами. Бабель охотно вносит в них некий оттенок извращенности, во всяком случае, он сознательно избегает строить отношения повествователя с героинями своих рассказов на основе «тривиальной» любви и «простого» соития <…> рассказчик в новеллах Бабеля часто имеет дело с суррогатами, с некими подменяющими эротический объект телами, вызывающими чуть ли не отвращение. <…> Женщина-эрзац <…> оказывается по своим чертам противоположна источнику эротической притягательности. Вера вообще описывается в предельно антиэротических терминах. <…> В отношениях рассказчика с эрзацами <…> телесные отношения почти полностью подчинены слову. Отношения между мужчиной и женщиной-суррогатом разворачиваются целиком через игру со словесностью, длинный рассказ-вымысел, перевод Мопассана. <…> Через Полита Раисой по существу овладевает Мопассан — главный и тоже несуществующий (негативный) объект ее страсти. Рассказчик сам оказывается эрзацем Мопассана. <…> Соблазнитель приобретает особую власть именно в силу отсутствия физического контакта, в силу своего телесного отсутствия вообще.
В последних фразах процитированного отрывка появляется отнесение уже к другому рассказу Бабеля — «Гюи де Мопассан», а также — через слово «соблазнитель» — к печально известному сочинению Кьеркегора «Дневник соблазнителя». Автор — то есть М. Ямпольский — не заметил ироничности последнего отнесения, а, назвав указанное сочинение «библией соблазняющих стратегий», еще более углубил ироничность ситуации. Кому не известно, что «Дневник соблазнителя» на самом деле — дневник импотента, фантазирующего о возможном — невозможном! — овладении женщиной? Кому не известна кьеркегоровская Регина и все с ней связанное?
Вот, если угодно, модель семиотического отношения к миру: интерес представляет не реальность, а фантазии о ней, именуемые культурой. Культура оказывается некоей фикцией. Это вроде бы и так, но с этим очень трудно примириться. Не хочется думать, что культурный прогресс не выработал ничего, что открывает ту или иную грань истины о мире. И понятно, почему семиотика, вообще современная философия удовлетворяются такими построениями: потому что они ориентируются на литературу, как раньше философия, допустим, Канта была ориентирована на математическое естествознание, а философия, скажем, Бергсона на биологию.
Применяя новейшие методологии к анализу Бабеля, М. Ямпольский показал нам не столько Бабеля, сколько сами эти методологии. Мы видим не Бабеля, а Бютора, Батая и Бодрийяра. Но три «б» никак не могут заменить одного — того, что в слове «бляха».
В эпоху инквизиции был такой прием: прежде чем пытать допрашиваемого, ему показывали орудия пытки. Для некоторых этого было достаточно, они начинали «раскалываться». Но Ямпольский свой орешек не расколол. Он оказался в положении героя басни «Любопытный». Препарированный им Бабель предстал настолько уж «литературным», что ему хочется предпочесть Буденного — какого-никакого, а все-таки живого. Напомню, что пресловутая статья Буденного называлась «Бабизм Бабеля из „Красной Нови“». Получается — если сделать те выводы из Ямпольского, которых он сам не сделал, — что особенного «бабизма» и не было. Разве это не интересно узнать о художнике? Семиотикам — не интересно, потому что им нет дела до «референтов».
Вернемся от Ямпольского к Гройсу. У него есть статья «Город без имени» — одна из лучших в его сборнике «Утопия и обмен». Там говорится, что город на Неве — всего-навсего цитата, культурная справка, существующая только в некоей постистории. Между тем это живой город, в котором живут люди, это не Рим в лас-вегасском исполнении. Я это говорю к тому, что собравшиеся в Лас-Вегасе российские интеллектуалы слишком увлеклись темами американской, вообще культурной знаковости. Но в Америке существует не только Лас-Вегас, то есть не только деньги. В ней существует реальность — та самая, которая обеспечивает ценность и цену доллара. Если угодно, Америка и есть абсолютный референт современной культуры, подлинное ее «означаемое». Русский прогресс будет состоять не в овладении наимоднейшими методологиями и фразеологиями, а в построении реальности — в возвращении к реальности от культурных утопий. Говорить о знаковых системах пока еще модно, но нужен следующий шаг, дальнейшее движение, next movement. Не нужно пугать Наталью Иванову призраком российского Лас-Вегаса.
1998
Один из самых острых вопросов нынешней международной политики — югославский; пожалуй, не менее острый, чем вопрос о российском политическом будущем. Собственно говоря, оба этих вопроса начинают выступать как один, как единая проблема, здесь уже установилась некая нежелательная связь. Расклад политических сил в России сейчас таков, что нужно считаться со всеми — в том числе с крикунами национал-радикального крыла, гальванизирующими старые мифы о традиционных союзниках России, каковыми якобы всегда были сербы. Кто-то из великих английских политиков сказал: у Англии нет традиционных друзей и врагов, у Англии есть традиционные интересы. Но в том-то и дело, что в России давно уже и стойко сложилось представление о том, что балканские дела входят в сферу ее интересов.
Выделим в этой теме два аспекта и поговорим о каждом из них особо. Тема — Россия и славянство; аспекты ее — политический и идеологический. Политический аспект связан с тем, что в прошлом веке называлось восточным вопросом. В политическом мире тогда существовал так называемый «больной человек» — распадающаяся Оттоманская империя, Турция с колониями. Одной из этих колоний были Балканы с их славянским населением — часть империи, вызывавшая наибольшие аппетиты у европейских великих держав, именно потому, что это был Европейский регион, а еще потому, что южнославянские земли имели выход к пресловутым проливам — Дарданеллам и Босфору. В тогдашней геополитике считалось страшно важным, кто завладеет этими проливами, кто будет контролировать морской путь из Черного моря в Средиземное. Тогдашняя Россия выступала с самыми серьезными притязаниями на эти проливы. Ясное дело, что подобной экспансионистской политике могла помочь, по крайней мере не помешала бы, какая-либо идеологическая мотивировка. За ней далеко ходить не приходилось: это была все та же идея Третьего Рима — объединения всех православных народов под скипетром русского царя, выступавшего с претензией на роль естественного защитника православия. Итак, идея православной империи с центром в Константинополе, столице бывшей Византии, Восточно-Римской империи, откуда на Русь пришло православное христианство и законным наследником которой русские цари считали себя. А Константинополь ныне был Стамбул — столица той самой Оттоманской империи. Так совершенно недвусмысленная внешняя экспансия в сторону турецких владений получила очень возвышенное, религиозное оправдание.