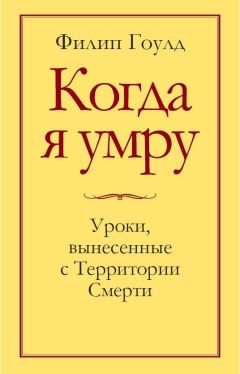Через десять дней я перебрался в отдельную комнату и тут почувствовал, что просто сдаюсь перед усталостью. Алистер Гасконь, отвечающий за интенсивную терапию и одновременно за отделение инфекционных заболеваний, повстречал меня в коридоре и сразу увидел, что у меня не все в порядке.
Алистер – это еще один из гигантов духа, подвизающихся под эгидой государственного здравоохранения. Рассыпая вокруг грубые шутки, он был незаменим, если требовалось поднять дух у серьезно больных пациентов. В сравнении с Майком его отличала большая язвительность, желчность, но он очень легко устанавливал с людьми доверительные отношения. Как и Майк, он начинал работу ни свет ни заря, работал до позднего вечера и не признавал выходных. В палаты он заходил бесшумно, почти незаметно, и обладал каким-то шестым чувством, позволявшим угадывать состояние пациента.
Он сразу заподозрил у меня какую-то инфекцию и в субботу собственноручно усадил в каталку, чтобы отвезти в рентгеновский кабинет. Там мной занимались целый день, и только после обеда он сказал, что картина ему ясна и нужно поставить дренаж.
Это значило, что с помощью просвечивающего аппарата следовало нащупать дорожку от моей спины к легким и затем вставить туда трубку, через которую должна была вытекать инфицированная жидкость. Звучало это весьма угрожающе, но на самом деле оказалось не так уж и страшно, тем более что рядом была Грейс, не выпуская мою руку из своей. В конце концов дренаж встал на место, и через него вытекло целых два литра болезнетворной жидкости. Это продолжалось сутки или двое. Инфекционный пожар разгорается за считанные часы. Через несколько дней он грозил бы мне очень серьезными проблемами. В моем случае воспаление было притушено солидными дозами антибиотиков, и этого эффекта должно было хватить на четыре недели.
Вмешательство Алистера поразило меня, как чудо. Он продемонстрировал буквально мистический дар видения, что у человека внутри. Потом он взял за обычай навещать меня каждый день, чтобы убедиться, что все в порядке. Мы беседовали о наших дочерях, живущих в Ньюкасле, и о долгих прогулках вдоль побережья Нортумберленда, которые он позволял себе в компании своей собаки. Это оказался скромный человек, склонный к рефлексии, но его сдержанная манера не умаляла той огромной роли, которую он играл в больнице.
Ровно через три недели в полном соответствии с планами Майка я покинул больницу и переехал на квартиру в Ньюкасле, где мне следовало прожить еще месяц. Начались снегопады, на улицах снег лежал толстым покрывалом, ходить стало трудно, но виды вокруг были просто прекрасны. Что и говорить, на Рождество Ньюкасл – не самое худшее место.
Ближе к концу декабря состоялась коллегия по вопросу моей гистологии. На ней зачитали отчет об исследовании тканей, вырезанных во время операции. На базе этого отчета можно было уже говорить о том, что меня ждет дальше.
С одной стороны, я смотрел на перспективы с определенным оптимизмом. Я верил, что, пройдя через все эти муки, заслуживаю выздоровления. Кроме того, я не понимал, как в ходе предоперационных обследований они могли бы пропустить какие-то онкологические очаги. Но, с другой стороны, беспокойство меня не отпускало. В медицине, как и в политике, хорошие новости распространяются очень быстро. Я был уверен, что гистологический отчет давно уже лежит у кого-то на столе, но до меня не дошло никаких сообщений, что там все в порядке.
Впрочем, мы с Гейл были уже настолько вымотаны, что не было сил испытывать какие-то новые эмоции. Последние два месяца дались нам очень тяжело, и это был чуть ли не двадцатый раз, когда нас ждали на со вещании, где должен был решаться вопрос жизни и смерти. Мы просто выдохлись.
Мы приехали в больницу, и прямо на пороге я повстречал Сару, внештатного консультанта, которая помогала Майку. Она держалась приветливо, но как-то отчужденно, и я увидел в этом дурное предзнаменование. Мы сидели в приемной, начало совещания задерживалось на час, что тоже можно было понимать как определенный намек.
Вошли Майк и Клэр, старшая медсестра, с которой я уже успел подружиться. Майк начал с абстрактных рассуждений о моем здоровье: как я себя чувствовал, какие были симптомы. Эти речи тоже не предвещали ничего доброго. При таких встречах хорошие новости выкладывают сразу, а не приберегают к концу. И тон у Майка был довольно формальный, без тех искр, к которым я уже привык.
Потом он сказал: «Давайте перейдем к гистологии». И продолжил: границы резекции в норме, хотя и несколько уплотнены, опухоль удалена, однако рак распространился шире, чем ожидалось, пустил более глубокие корни. Семь из двадцати трех вырезанных лимфатических узлов оказались поражены раком.
Семь.
Я почувствовал дурноту. Я знал, что это очень, очень плохо.
Он сказал, что весьма высока вероятность рецидива. Я спросил, каковы мои шансы. Все те же 25 процентов? Нет, сказал он, скорее процентов 20. При этом он как-то мямлил, и видно было, что он сам не верит своим словам. Если провести курс облучения, это добавит еще 10–15 процентов вероятности, но и это было сказано без особой убежденности.
Я взглянул ему в глаза. «Рак вернется?» – спросил я. «Да, – ответил он. – Скорее всего, да».
В комнате повисло мрачное молчание. Майк не выражал никакой надежды, Клэр глядела на шефа, а Гейл была просто контужена, как взрывом снаряда. Я попытался как-то разрядить обстановку, но безуспешно. Мы вышли.
«Все получилось не так хорошо, как я думал», – сказал я. «Да, не лучшим образом», – согласилась Гейл. Мы шли по улице, понимая, что наше будущее еще раз изменилось.
Я честно сказал девочкам, что прогноз совсем безрадостный.
Через несколько дней уехала Гейл. Приехала Джорджия, и мы отправились на прощальную аудиенцию к Майку. Наше настроение уже почти пришло в норму, и мы выглядели вполне жизнерадостными. Майк рассказал Джорджии неприукрашенную правду о моем состоянии, и она восприняла это с достоинством. Частично ей помогло в этом позитивное настроение, которое мы тщательно поддерживали друг у друга.
Пару дней спустя мы с Джорджией пошли на завтрак с кофе, который Майк и Клэр организовывают каждый год. Мы ожидали, что где-то в служебном помещении соберется человек двадцать коллег, чтобы поболтать на свои профессиональные темы. А пришло восемь сотен народу, полностью заполнивших городской общественный центр.
Восемьсот человек, чья жизнь так или иначе пересеклась с Майком и его сотрудниками.
Рекордсмен-долгожитель в этой компании пережил операцию двадцать лет назад, когда эта клиника только начинала свою работу. Благодаря этому утреннику Майк имел возможность видеть плоды своей жизни. Знал бы я хоть одного политика, который мог бы предъявить столь наглядные результаты своих трудов.
Мы сидели за столом в компании переживших рак пациентов из Саут-Шилдса. Это были дружелюбные и открытые люди, не признающие пустой болтовни. Они сразу же взяли меня в оборот. Мы говорили о значении рака в их жизни. А значил он для них примерно то же, что и для меня. Это были разговоры о том, как пережить ночные страхи, как много значит окружающее общество и поддержка близких, как важно сохранять оптимизм и веру в добро. За всеми этими словами стояло признание, что да, рак– это жестокая штука, но в его власти перестроить жизнь человека. И эти люди подтверждали, что их жизнь полностью изменилась именно благодаря болезни.
В Саут-Шилдсе они организовали группу поддержки больных раком пищевода. Эта группа раз в неделю собиралась в пивной, обсуждая весьма обширную программу, в которую включались все новые люди, пережившие рак. Они пригласили меня на свои встречи, и я пообещал когда-нибудь обязательно прийти. Мы жили очень далеко друг от друга, но при этом разделяли общие представления о том, что это за болезнь и как с ней бороться. Я ощутил себя участником какого-то общего похода.
Рождество мы провели в снегу, за городом. Были только мы с женой и наши дети. Скрывать было уже нечего, каждый из нас знал о ситуации без утаек. Все испытывали напряженность, но поддерживали друг друга.
Джорджия с трудом восприняла мой первый диагноз и старалась не обсуждать со мной мою болезнь. Она хотела счастья, хотела приносить пользу и, похоже, чувствовала, что любые грустные нотки тут же выдадут ее тревогу. Это была слишком глубокая проблема, чтобы выразить ее словами. Однако в Ньюкасле ее душа вырвалась на свободу. Теперь она смирилась с тем, что у меня рак, с реальной ситуацией, могла смотреть ей в лицо и говорить о ней открытым текстом.
С Грейс было по-другому. Она могла говорить о моей болезни, но ее устраивали только факты, а не всяческое бла-бла-бла. Она рассуждала о данных анализов, о вероятностях в процентах, о реально ожидаемом сроке жизни. Будучи сильна в черном юморе, она могла свободно шутить на эту тему. Она с самого начала говорила обо всем совершенно открыто. С другой стороны, я думаю, мой рецидив ее тоже несколько огорошил. Она искренне не допускала, что такое может произойти.