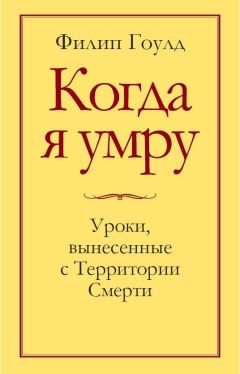С Грейс было по-другому. Она могла говорить о моей болезни, но ее устраивали только факты, а не всяческое бла-бла-бла. Она рассуждала о данных анализов, о вероятностях в процентах, о реально ожидаемом сроке жизни. Будучи сильна в черном юморе, она могла свободно шутить на эту тему. Она с самого начала говорила обо всем совершенно открыто. С другой стороны, я думаю, мой рецидив ее тоже несколько огорошил. Она искренне не допускала, что такое может произойти.
Я надеялся и верил, что мои отношения с дочерьми с каждым годом становятся более глубокими. И мы молча решили сами построить наше будущее, сжать десять или сколько еще там лет, на которые я мог бы рассчитывать, в один год, который отпущен мне судьбой.
Дочери выпотрошили меня до самого дна. Джорджия решила узнать все, что я думаю. К каким выводам я пришел? На каких ценностях остановился? Почему я верю в то, во что верю? А Грейс требовала от меня четких практических советов, которые можно было бы тут же употребить в дело. В какой-то момент она захотела, чтобы я расписал все случайности, которые могли бы свалиться на ее голову, и обеспечил каждый такой случай удовлетворительной рекомендацией. Сознавая, что скоро ей придется со мной расстаться, она решила получить от меня руководство на всю оставшуюся жизнь.
Впрочем, с дочерьми все оказалось проще, чем могло быть. В конце концов, это естественно – когда дети переживают родителей. Так что и прощание должно быть вполне в природе вещей.
Другое дело – Гейл. Она уже не нуждалась в напряженной жизни, стремящейся к какой-то высокой цели. Она хотела только тишины и покоя. Не движения в будущее, а продления настоящего. Она всегда мечтала о будущем, которое было бы свободно от всяких трудов и обязанностей. Чтобы мы просто слонялись по свету и потихоньку старели, идя рука об руку.
Мы так давно знали друг друга, что создали для себя общий мирок. После смерти мужа Кэтрин Уайтхорн написала: «Брак – это вода, в которой плаваешь, страна, в которой живешь, привычки и принципы, которые разделяешь». Казалось бы, что может быть естественнее, чем под конец жизни вместе заниматься какой-нибудь ерундой! Но вот сложилось так, что я даже этого не могу гарантировать. Этот факт трудно перенести, и со временем не становится легче.
В Лондоне мы навестили Дэвида Каннингема. Гейл принесла документ, который получила на прощание от Майка. Она долго не хотела мне его показывать, но я добился своего и прочитал следующее резюме: «Перспективы Филипа Гоулда крайне неутешительные… Пациент сознает, что его шансы на выздоровление очень низки». Одно дело – услышать эти слова, а другое – прочитать их черным по белому. У меня по спине пробежал холодок.
Мы вошли к Дэвиду. Он никогда не терял оптимизма, но при этом не опускался до обмана. Он сказал, что следующим шагом должна быть совмещенная химио– и радиотерапия. Проводить ее нужно ежедневно, не считая выходных. В дальнейшем мы проанализируем диагноз в отношении ДНК, чтобы оценить, возможно ли в случае следующего рецидива какое-либо экспериментальное лечение.
Он снова заронил какую-то надежду, но мне нужна была передышка.
Я не боялся сеансов радиотерапии, но теперь процесс питания снова осложнился, а глотать становилось все труднее. Дэвид направил меня к консультанту, которого звали Жервуа Андреев. Он специализировался на симптомах, сопровождающих лучевую терапию после операции. Это был человек блестящего интеллекта, настоящий бриллиант, каких немало скрывает Марсден. Он прописал целую коллекцию новых лекарств, и буквально через несколько дней мне стало явно легче. Правда, позвонил Майк и сказал, что я не смогу пройти этот курс лечения без использования трубки для искусственного питания, так как где-то на середине курса есть все равно будет невозможно.
Итак, на следующий день я вернулся в Ньюкасл, чтобы мне вставили трубку для искусственного питания. Я вновь повидался со всем тамошним коллективом, и мне показалось, что они были искренне рады видеть меня. После операции зашел Майк, и мы поговорили о суровой реальности моих перспектив. Майк высказался за то, что всегда следует говорить пациенту горькую правду и одновременно уведомлять о реальной ситуации всех членов семьи. Так можно предотвратить обиды и необоснованные надежды.
Я сказал, что правду следует говорить и по другим, более глубоким причинам. Зная о близкой смерти, человек может более разумно употребить оставшееся время, поменять правила своей жизни. В самом деле, знание о том, сколько тебе отпущено времени, можно понимать как особую привилегию, которая дается отнюдь не каждому. Это ведь намного лучше, чем неожиданная смерть, к которой человек не успел подготовиться.
Лучевая терапия мне не понравилась – к большой досаде моего консультанта Дайаны Тейт. Она повторяла, что сейчас идет Год лучевой терапии и хотя бы поэтому стоило бы относиться к ней с большим доверием. Она все делала блестяще, к ее персоналу у меня тоже нет никаких претензий, и все равно после облучения (как и некоторых других процедур) я совсем упал духом.
Когда я впервые пришел в радиотерапевтическое отделение, я удивился той мрачной атмосфере, которая царила среди ожидающих пациентов. Она радикально отличалась от настроения больных, готовящихся к операции или сеансу химиотерапии. И дело не в том, что облучение как-то особенно неприятно или болезненно. Вовсе нет. Просто оно притупляет и выхолащивает человеческие чувства. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной встают призраки тех переживаний.
Сама процедура очень проста. Ложишься на койку под огромный поворотный агрегат, на борту которого, как на военном корабле, начертано его личное имя. На моем было написано «Джофорд». Машина, пыхтя, поворачивается из стороны в сторону и посылает лучи в мое тело под четырьмя разными углами. Нет боли, не чувствуешь вообще ничего, если не считать жужжания самого агрегата, когда он посылает рентгеновские лучи[9]. Единственное неудобство – нужно лежать, вытянувшись и закинув руки за голову. Я слушал музыку через iPod, и время проходило незаметно. Однако никому эти процедуры не нравились, а кое-кто переносил их довольно болезненно.
Один раз я увидел человека, который стоял в нелепой позе и не мог сесть – просто из-за боли. Другой у меня на глазах потерял сознание в душевой. Третий плакал, подавляя рыдания. Сначала я думал, что причиной всему было состояние их здоровья, а не облучение, но со временем начал кое-что понимать.
Впрочем, многим лучевая терапия дается гораздо легче, и, возможно, я как раз оказался в категории таких счастливчиков. Но даже те, кому было тяжело, обычно не меняли своего решения. День за днем они приходили на эти процедуры, терпели боль, хотя многие из них, это было видно, неуклонно двигались к своему концу.
Суть лучевой терапии состоит в том, чтобы вычистить непосредственно ту зону, которая подверглась операции, и заодно окружающие ткани, в которых были обнаружены пораженные лимфатические узлы. Задача облучения – пресечь возможные локализованные рецидивы. Проблема заключалась в том, что после перенесенной мной операции оставшиеся лоскуты пищевода и желудка находились в зоне, которая соседствовала с легкими и сердцем, так что найти к ним безопасный путь было непростой задачей. Весь удар жесткого излучения должен был пройти именно через зону, в которой велась операция.
Уже после первого дня я почувствовал боль в этом месте, и она начала постепенно разрастаться в стороны. У меня развился ужасный кашель, но потом он прошел, и следующие недели оказались не так уж и тяжелы. Но вот в последнюю пару недель боль снова обострилась и стала сопровождаться постоянной тошнотой, но не от еды, поскольку я уже ничего не ел, а от слизи, которая образовалась из-за хронического воспаления. Это сочетание боли и тошноты продолжалось несколько дней.
Итак, я занялся привычным делом – нужно было как-то со скрипом двигаться вперед. Четыре раза в день я принимал по целому блюдцу таблеток, включая и препараты химиотерапии. Каждый прием растягивался у меня на целый час. В таких ситуациях рак становится испытанием на выживание, которое тянется минута за минутой, и не остается ничего, кроме желания все это преодолеть или найти хоть какую-то возможность расслабиться.
А в придачу ко всему этому стоит вспомнить мрачную эпопею с трубкой для искусственного кормления. Она была мне вставлена прямо в желудок, а точнее, в кишечник. Для того чтобы получить очередную дозу питания, я каждый вечер подключал ее к насосику и закачивал полтора литра сладкой густой жидкости, которая называлась моей пищей.
Гейл с ужасом смотрела на все это. Она возненавидела звук этого насосика, запах жидкости и сам факт превращения нашего частного жилого пространства – спальни – в процедурную. Но больше всего она ненавидела трубку, которая, как пластиковый угорь, выходила у меня откуда-то из желудка и была для меня как спасательный трос. Гейл была уверена, что рано или поздно я вытащу ее наружу и с этого момента не смогу получать питание.