(Штерн Л. Эта неаполитанская наружность // Малоизвестный Довлатов: Сборник. СПб., 1995. С. 394–395)
Яков Гордин:
Сережин рассказ, конечно, нельзя было назвать вызывающим советским текстом, но и ничего ужасного в нем не было. Просто мы переоценили нашу степень свободы и защищенности, потому что вечер действительно получился очень вызывающий. Положение усугублялось тем, что в зале на двести пятьдесят мест было на самом деле человек триста, и это были люди сочувствующие, понимающие то, о чем мы говорили. Но в это время уже началась внутренняя борьба в нашей среде, в ней стало выделяться своеобразное патриотическое крыло, которое потом очень усилилось. На следующий день после этого вечера в разные инстанции (в обком комсомола, в обком партии, в ЦК) поступил текст, подписанный тремя людьми. Наш недавний приятель Валя Щербаков, которого, правда, исключили из объединения за антисемитские выпады, был председателем этой секции.
Народу собралось очень много. Сидели на подоконниках. Выступления прошли с большим успехом. Бродский читал под неумолкающий восторженный рев аудитории.
Через неделю он позвонил мне:
— Нужно встретиться.
— Что случилось?
— Это не телефонный разговор.
Если уж Бродский говорит, что разговор не телефонный, значит, дело серьезное.
(Сергей Довлатов, «Ремесло»)Андрей Арьев:
В обком полетели официальные и неофициальные письма от литераторов, которые позже составили основу националистического течения (я имею в виду общество «Память», скажем). Эти люди, которые были нашими знакомыми, написали тайное письмо в обком. Оно попало к нам случайно: жена одного из доносчиков, Вали Щербакова, которая с ним расходилась, нашла это письмо, вырвала и принесла нам. Кажется, директор Дома писателей в результате был уволен. После этого в очередной раз усилился контроль над контркультурой — той культурой, которая не имела отношения к официозу.
Мы встретились на углу Жуковского и Литейного. Иосиф достал несколько листков папиросной бумаги:
— Прочти.
Я начал читать. Через минуту спросил:
— Как удалось это раздобыть?
— У нас есть свой человек в Большом доме. Одна девица копию сняла.
Вот что я прочел:
Отдел культуры и пропаганды ЦК КПСС тов. Мелентьеву
Отдел культуры Ленинградского ОК КПСС тов. Александрову
Ленинградский ОК ВЛКСМ тов. Тупикину
Дорогие товарищи!
Мы уже не раз обращали внимание Ленинградского ОК ВЛКСМ на нездоровое в идейном смысле положение среди молодых литераторов, которым покровительствуют руководители ЛОСП РСФСР, но до сих пор никаких решительных мер не было принято. Например, 30 января с. г. в Ленинградском Доме писателя произошел хорошо подготовленный сионистский художественный митинг. Формы идеологической диверсии совершенствуются, становятся утонченнее и разнообразнее, и с этим надо решительно бороться, не допуская либерализма.
(Сергей Довлатов, «Ремесло»)Валерий Воскобойников:
Что было особенно странно и обидно в этом доносе? До него нам казалось, что мы, юные, прогрессивные, мыслящие, вынуждены конфликтовать со старшим поколением — в силу понятных причин косным, ограниченным, ретроградствуюшим. И вдруг оказалось, что среди нас, молодых людей, среди своих, есть те, кого нам следует опасаться едва ли не больше, чем старых партийных функционеров.
Людмила Штерн:
Это был написанный в лучших традициях политический донос, под которым стояли подписи руководителей некоего литературного клуба «Россия» при обкоме ВЛКСМ.
О Довлатове там говорилось: «Трудно сказать, кто из выступавших менее, а кто более идейно закален на своей ниве, но чем художественнее талант идейного противника, тем он опаснее. Таков Сергей Довлатов… То, как рассказал Сергей Довлатов об одной встрече бывалого полковника со своим племянником, не является сатирой. Это — акт обвинения. Полковник — пьяница, племянник — бездельник и рвач. Эти двое русских наливаются, вылезают из окна подышать свежим воздухом и летят. Затем у них возникает по смыслу такой разговор: „Ты к евреям как относишься?“ — задает анекдотический и глупый вопрос один. Полковник отвечает: „Тут к нам в МТС прислали новенького. Все думали — еврей, но оказался пьющим человеком!..“» (Забавно, что эта «криминальная» довлатовская фраза стала в наших компаниях то ли крылатой, то ли летучей.)
Сергей мог быть польщен. Его «художественный талант» был особо отмечен. Даже Бродский не удостоился такой похвалы. Но таким образом на Довлатова было обращено и особое внимание разных инстанций. В том числе и КГБ, где, как известно, к доносу отнеслись со всей серьезностью.
(Штерн Л. Довлатов — добрый мой приятель. СПб., 2005. С. 39)
Яков Гордин:
Говорилось о том, что прошел антисоветский сионистский митинг: собралось триста граждан еврейской национальности. Это была абсолютная чушь, просто в евреи и сионисты они, недолго думая, записали всех собравшихся. О Валере, которого довольно трудно отнести к евреям, было замечательно сказано примерно следующее: «В новом амплуа, поддавшись политическому психозу, выступил Валерий Попов. Обычно он представлялся как остроумный юмористический рассказчик, а тут на митинге неудобно было, видно, ему покидать ставшую родной политическую ниву сионизма».
Все это, конечно, выглядело по-идиотски, но было воспринято чрезвычайно серьезно и отразилось на изменении атмосферы в городе. Пострадали такие почтенные люди, как Вера Казимировна Кетлинская, которая была председателем комиссии Союза писателей по работе с молодыми авторами. Сняли заместителя директора Дома писателей Шагалова (сам директор был в отпуске), хотя он, казалось бы, был ни при чем: этот вечер был разрешен более высокими инстанциями.
Это происшествие сыграло очень значительную роль в жизни Сережи. После злополучного вечера Довлатова как писателя решили закрыть, что, собственно, и произошло.
Людмила Штерн:
— Вы, очевидно, не представляете себе, что литература, точнее, мои рассказы — это единственное, что имеет для меня значение… Меня совершенно никто и ничто больше в жизни не интересует.
«А женщины?» — хотела я спросить, но не решилась.
— Вы подумали сейчас, и зачем он мне голову морочит? — ответил на мои мысли Довлатов, и очень торжественно сказал:
— Я хочу, чтобы вы знали: я, кроме литературы, ни на что больше не годен — ни на политические выступления, ни на любовь, ни на дружбу.
(Штерн Л. Эта неаполитанская наружность // Малоизвестный Довлатов: Сборник. СПб., 1995. С. 396)
Елена Довлатова:
В самом начале его творческой жизни ничто не предвещало такую печальную жизнь и незавершенность. Рассказы, написанные им в середине шестидесятых, позволили ему попасть в официальную программу вечера Дома писателей в 1968 году. Тогда пришло очень много людей, и вечер этот был большим событием. Казалось, что все будет прекрасно, мы были полны надежд. Как-то так всегда все начиналось хорошо, а заканчивалось очень плохо. Так было всю жизнь.
Валерий Попов:
Мы тогда готовились стать писателями и очень внимательно искали для себя достойный пример. Для нас им стала Вера Панова.
Помню, я увидел ее на премьере спектакля «Проводы белых ночей» по ее пьесе. Во время антракта в фойе ходила маленькая аккуратная женщина в сопровождении своей свиты. Казалось бы, ничего особенного в ней не было, но чувствовалось, что Панова источает какую-то невероятную невидимую силу. Что нас, молодых писателей, в ней привлекало? Во-первых, ее талант, ее литературная мощь, которая не вызывала никаких сомнений. Во-вторых, колоссальная внутренняя свобода и независимость. Панова, как настоящий писатель, понимала, что в литературе нужно постоянно делать подвижки, нужно все время говорить новое, нужно быть смелее, чем раньше, — иначе нет смысла писать. Ради этого она шла на самые опасные конфликты, считая, что без борьбы ей нельзя работать. Она умела не идти на поводу у власти, будучи лауреатом Сталинских премий, оставаясь в президиумах и комитетах. Панова ведь состояла в этой особой комаровской компании, которая создала себе отдельную несоветскую страну — страну успешных, талантливых, смелых и красивых людей. Я имею в виду Евгения Шварца, Анну Ахматову, актера Николая Черкасова. Вера Панова безусловно входила в этот особенный круг людей.
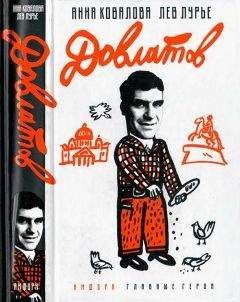
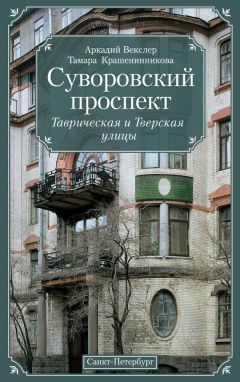


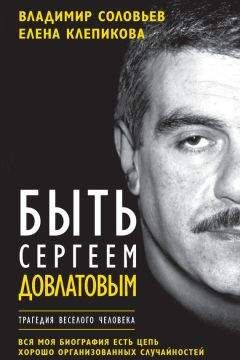
![Константин Путилин - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 1]](https://cdn.my-library.info/books/33302/33302.jpg)