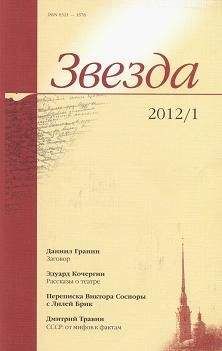полстакана водки. Постепенно он стал успокаиваться и приходить в себя. И поведал мне своё горе. Почему мне? Я не был его другом, да и вообще в театре никогда ни с кем близко не сходился. С ним всегда хорошо работал, иногда ругался, но по делу. Уважал его за профессионализм и творческую жилку.
Оказалось, что Евсей Маркович был образцовым семьянином. Очень любил свою семью, обожал дочь. И когда зять увез её вместе с внуками в Израиль, он страшно переживал это событие и заработал первый инфаркт.
Будучи на гастролях в Тель — Авиве, Маркович увидел неустроенность, бедность семьи дочери и предложил продать хорошую дачу и квартиру в Питере, на эти деньги купить в Израиле большую квартиру или дом для воссоединения с дочерью и внуками. Зять категорически отказался объединяться.
Вскоре по возвращении в Питер с ним произошёл второй инфаркт, потом третий. Последнего он не выдержал — умер. Так трагично ушёл от нас любимый всем БДТ солнечный человек Евсей Маркович, профессионал огромного таланта. В осиротевшем осветительском цехе до сих пор висят фотопортреты Кутикова. Душа его осталась в стенах БДТ и иногда улыбается нам.
Художественно — производственные мастерские Ленинградского малого оперного театра (Малегота). 2013. Фотография М. А. Захаренковой.
В далёком 1959 году, будучи на практике в художественно — производственных мастерских Ленинградского академического малого оперного театра, или как его в ту пору обзывали любители Мельпомены — Малегота, я нежданно для себя обнаружил полный букет «древних», ещё дореволюционных мастеров, сныкавшихся там от бушующей снаружи советско — хрущёвской действительности. Гениально спрятанные во дворе этнографического музея и совершенно не заметные с площади Искусств, мастерские располагались в четырёхэтажном флигеле, пристроенном к музейным стенам в двадцатые — тридцатые годы. Часть деревьев огромного Михайловского сада аппендиксом заходила на территорию двора этнографического музея. В летние тёплые дни под ними, за сколоченным в мастерских дощатым столом, на таких же деревянных скамьях в обеденные перерывы отдыхали, играя в шашки и шахматы, мастера — антики, чудом сохранившиеся в живых после бесконечно трагических перипетий Эсэсэрии — революций, голода, холода двадцатых годов, Отечественной войны, Блокады Ленинграда, сталинских чисток тридцатых- сороковых годов и других непотребных шалостей Совдепии. В этом оазисе, находившемся в самом центре города, царили провинциальное спокойствие и тишина.
Большая часть антиков, родившихся ещё в девятнадцатом веке, сохраняла в себе дух старого Петербурга. Людишкам вроде меня, попавшим в их среду, странным казалось, как целый отряд «императорских театральных партизан», поместившийся бы в чекистский воронок, ещё существовал на белом свете и даже работал. Правда, всего — навсего делал декорации, но всё — таки…
Этот недосмотр «ведомства» помог мне познакомиться с древними «недобитыми театральными пердунами», как их обзывало выросшее в Советском Союзе поколение, и многому научиться. Одним из них был некто Константин Константинович Булатов. Про него надобно сказать, что он был последним, редчайшим, исключительнейшим представителем театрально — постановочного делания не только в Малеготе, в Питере, но и во всём театральном мире нашего земного шарика.
Встречали ли вы в каком — нибудь театре какой — либо страны на службе в мастерских профессионального химика, да ещё выпускника Санкт — Петербургского университета? Да на фига он там нужен?! Ан нет, оказалось, что очень даже необходим. В те тощие десятилетия после Октябрьского переворота, да и после Великой Отечественной войны, красок для театрально — живописных работ в Стране Советов никто не производил. Валюта на их закупки «за речками», естественно, не выдавалась. Достать яркие голубые, синие, фиолетовые, глубокие красные, сложные зелёно — изумрудные и прочие краски практически было невозможно. И вот наш химик, застрявший в театре в голодные двадцатые годы из — за безработицы и собственных интересов — он был страстным фанатом оперы, — восполнил пробел отечественной промышленности в своей крошечной лаборатории, выделенной ему при красилке. Из разных, никому, кроме него, не известных ингредиентов стал изготавливать уникальные краски, за которыми охотились все художники — декораторы питерских, московских театров, да и всей сценической России. Такой драгоценный дефицит добыть в ту пору можно было только у него. А знаменитый булатовский голубец — цвет между бирюзой и лазурью, — прославил его среди художников всех жанров страны.
Официально, в мастерских, он числился и получал зарплату заведующего красильной мастерской, неофициально по театральному городу слыл единственным, незаменимым волшебником красок. Старинный заведующий постановочной частью театра, чудом оставшийся в живых от царских времён антик — Павлов, приходивший в мастерские с золотым набалдашником, — тростью, подаренной ему самим императором Николаем II за отличную работу, — приглашал его на приёмы эскизов и макетов авторов — художников. Булатов по их эскизам изготавливал колера, облегчая работу своему другу — великому художнику — исполнителю, профессору Института имени Репина Владимиру Николаевичу Мешкову.
В конце пятидесятых годов он в своей малюсенькой лаборатории изготавливает специальную эмульсию, благодаря которой начинает создавать на основе простынного полотна рир — экраны для обратных — рисованных, фотографических, киношных и прочих — проекций задолго до производства немецких образцов.
Короче, наши российские театры получают возможность в оформлении спектаклей использовать очень выразительную, экономичную технологию. К середине шестидесятых годов все питерские и московские театры обзаводятся булатовскими калькированными экранами или калькированными горизонтами. Большая часть из них по первости производилась в живописных залах Малого оперного театра, так как рецепт эмульсии какое — то время держался в секрете. Этим ноу — хау того времени кормились работники и начальники Малегота во главе с Булатовым.
Дядя Костя, как местные мастеровые именовали своего химика, привлёк моё внимание прежде всего своим необычайным видом, выделявшим его среди остальных обыкновенных кудесников флигеля.
Представьте себе крупную, яблокообразную седую голову, стриженную под ёжика и поставленную на короткую шею. Макушка его головы венчалась чёрным колпачком академика. Толстого стекла очки, сидящие на бородавчатой картошке носа. Покатые, женоподобные плечи, украшавшие тяжеловатый бочонок торса с возрастным животиком, поставленный на коротенькие ножки. Облачением ему служили неснимаемый, цвета жжёной кости, халат со следами химических упражнений владельца, надетый на простиранную толстовку, и чёрные брюки с дореволюционными подтяжками на пуговицах. Весь этот наряд завершался снизу грубосшитыми из крепкой чёрной кожи тапками — шаркухами, похожими на старые галоши, и толстыми шерстяными зимой и летом, носками. При снятии крупных очков на его голом лице обнаруживались сильно близорукие, серого отлива, добрые глаза малышки.
Целиком фигура его напоминала мне гастролировавшего в ту пору в нашем ленинградском цирке знаменитого коврового Хасана Мусина, только у того нос




![Эдуард Кочергин - Крещённые крестами. Записки на коленках [без иллюстраций]](https://cdn.my-library.info/books/126099/126099.jpg)