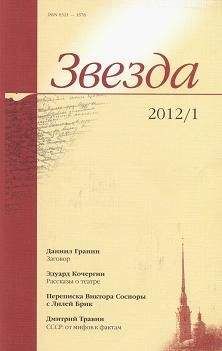был деланным, а у дяди Кости натуральным.
По образу жизни этот нечаянный волшебник был типичным старым холостяком, со всеми особенностями этой человеческой формации. Правда, старожилы мастерских рассказывали легенду, будто где — то в начале двадцатых годов он влюбился и чуть было не женился на замечательно красивой русоволосой и голубоглазой тётеньке — бывшей смолянке. Но в неё же влюбился родной брат дяди Кости, высокий стройный студент, тоже химик, ставший уже в Совдепии знаменитым академиком. Влюбился — и увёл из — под носа у карлообразного Константина Константиновича его великую любовь. С тех пор и началось его холостевание. С братом своим он порвал на всю жизнь всяческие сношения и никогда не поминал его ни в каких разговорах.
Дядя Костя из всех малеготовских стариков был самым образованным и неожиданным типом, и когда я пришёл в мастерские театра, мы с ним подружились. Он стал моим просветителем. Для одной из первых моих работ как художника — постановщика — «Океан» по пьесе Штейна во львовском Театре Прикарпатского военного округа (был такой театр в те времена) — он согласился, по моей просьбе, собственноручно выполнить изобретённый им калькированный горизонт. Будучи человеком преклонного возраста (тогда ему уже было за семьдесят пять лет), полетел со мной в город Львов. Там в живописном зале мастерских театра работал не разгибаясь, как папа Карло, полный рабочий день, пропитывая на полу привезённым из Малегота дилижансом — огромной декорационной кистью — простынное полотно, с мечтой заработать денежку на увеличение своей замечательной коллекции оперных пластинок. Орудуя тяжёлым дилижансом, он мычал ту или иную оперную мелодию. В начале работ мычал трагические куски серьёзных опер мирового репертуара: «Аида», «Борис Годунов», «Дон Карлос», затем трагические отрывки сменялись драматическими, драматические к концу изготовления кальки переходили в более лёгкие, вальсовые, танцевальные мелодии и даже цитаты из комических опер, вроде «Тайного брака» Доменико Чимарозы. И наконец, завершалась работа каким — либо гимном победы. Дядя Костя побеждал, освобождаясь от тяжести дилижанса «яко от цепей кандальных». Победив работу, он из своего любимого, неизменного чемоданчика холостяка доставал спиртовку, малую турку, в неё засыпал специальной серебряной ложечкой домашнего помола кофе и, залив его холодной водой, колдовал над спиртовкой до полной готовности. Затем извлекал из чемодана ритуальную кружку для кофе и фляжечку с коньяком, обтянутую чёрной кожей. В серебряную рюмаху с двуглавым орлом наливал коньяка и, заметно отхлебнув, запивал чёрным — пречёрным турецко — булатовским кофе. В эти моменты ему не нужны были ни деньги, ни успех, ни семья… Он был счастлив.
Уже потом, на обратном пути, в самолёте, старик, как малый пацан, радовался заработанным деньгам, которых ему должно хватить на приобретение нескольких антикварных итальянских пластинок с записями арий из опер Верди, исполняемых великими контртенорами, в народе называемыми кастратами.
Во Львове мы жили с ним в старой приличной гостинице с хорошим холлом, украшенным полукруглым диваном и довольно обширным круглым столом. За нимто мы и вечеряли. Наш распорядок дня не совпадал. Он уходил из гостиницы в мастерские театра рано и в шесть часов вечера возвращался домой. Меня увозили в девять — десять утра и возвращали тоже в девять — десять, но только вечером. И каждый вечер на столе холла стоял знатный ужин, приготовленный дядей Костей, и подарок — разного вида и рисунка композиции, ловко вырезанные из белой бумаги ножницами. Узнав, что в моём казённом, детприёмовском детстве не было никаких игрушек, он специально ежевечерне одаривал меня всякий раз новыми диковинными сценами, домами, дворцами, замками… Одним днём, вернувшись в гостиницу, я обнаружил на столе бой русских солдат времён славного генерала Петра Александровича Румянцева с турками при Кагуле. Другим днём на столешнице красовался бумажный Ноев ковчег с поднимающимся на него по дощатым сходням всевозможным зверьём: слонами, бегемотами, жирафами, крокодилами, медведями и прочей живностью.
Константин Константинович искусству вырезания из бумаги предавался с каким — то сладострастием, даже с чувственностью. Он, как волшебник, таинственно ворожил, создавая бумажные миры, получая от собственных творений огромное наслаждение. Он в эти вырезки вкладывал свои мечты, реализовывал сновидения, борьбу с собственной ущербностью — физическим уродством, одиночеством, с комплексом неполноценности. Эти вырезки — его воля к жизни, бегство от пошлости.
Любовь ко всякому искусству, а в особенности к музыке, опере поднимала его над повседневностью, придавала ему жизненные силы. Одним словом, он в среде человеков был истинным типом и талантом в различных проявлениях.
Дядя Костя потрясающе быстро и вкусно готовил. Благодаря ему нам хватало одного часа, чтобы сварганить еду и пообедать, не покидая живописную залу театра. Он умел всё и имел при себе все необходимые приспособы. Малый чайник на два стакана кипятка, турку, две кастрюли — одна в другой с крышкой — сковородкой. Его хозяйство вместе с полотенцем находилось в том же кожаном дореволюционном чемоданчике. Там же проживала и спиртовка на случай отсутствия другого нагревательного прибора под рукой. К боковым стенкам кухонного вместилища пристёгивались ложки, вилки, ножи. Его малые ручонки шуровали по кухонным делам с такой быстротой и ловкостью, что ни одна стряпуха из всех стряпух России и Европы не смогла бы поспеть за ним.
Вернувшись в Питер, я стал бывать у Константина Константиновича на улице Некрасова в замечательном логове меломана и пользоваться его отменной библиотекой. Я попал в гостиную добротной старинной квартиры, принадлежащей во время оно семье Булатовых, приспособленной для нехитрого, оригинального жития явного холостяка. Жилище волшебного химика представляло собой довольно обширную зальную комнату с циркульными окнами, лепным потолком, окантованным двухъярусным карнизом, старинным, наборного паркета полом и роскошным камином, на мраморной полке которого стояли бюсты великих оперных певцов, в том числе Шаляпина и Собинова. Справа от двери боковую громадную стенку занимал специально построенный в давнишние времена высоченный дубовый стеллаж — кассетник, в котором располагалась главная гордость хозяина — громадная коллекция оперных пластинок. Среди них на выделенной полке стояло несколько патефонов и проигрывателей разных времён, а над ними возвышался когда — то позолоченный, много поживший граммофон. Противоположную пластиночному «колумбарию» стену заполнял такого же размера книжный стеллаж, где кроме книг по музыке красовались дореволюционные издания по литературе, поэзии, изобразительному искусству знаменитых петербургских издателей Маркса, Суворина, Вольфа и других, под ними на нижней полке выстроилось почти полное собрание горьковской академии, советских двадцатых- тридцатых годов. У него я впервые прочитал Георгия Иванова, Мандельштама, Сологуба, Волошина, «Полутороглазого стрельца» Бенедикта Лившица и многое другое. Центр зала занимал дубовый раздвижной стол.
С потолка к нему спускалась двенадцатирожковая бронзовая



![Эдуард Кочергин - Крещённые крестами. Записки на коленках [без иллюстраций]](https://cdn.my-library.info/books/126099/126099.jpg)