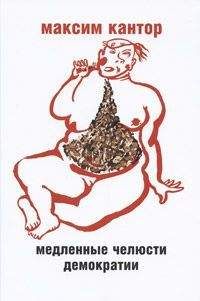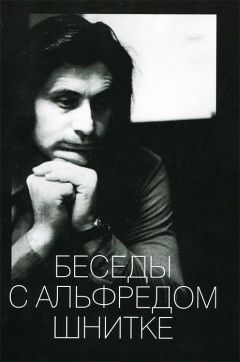П.П.: Следовало бы повторить и подчеркнуть, что речь идет о современном искусстве, об устойчивом терминологическом словосочетании, обозначающем комплекс «модернизм плюс постмодернизм». Не только интуитивное чувство, но и рациональные аргументы позволяют уяснить, что утрата любопытства к этой сфере, а также и резкое ослабевание чисто энергетического импульса в ней самой произошли мгновенно после исчезновения советской власти. В тот момент исчезла ниша, или щель, в которой эти дискурсы развивались и существовали как действительно живые способы выражения, то есть зона современного искусства была зоной расщепления между двумя версиями западного проекта – капитализмом и коммунизмом. Если мы проследим за историей модернизма и постмодернизма, то обнаружим, что история эта так или иначе соотносится с левыми движениями. Виднейшие модернистские теоретики и практики были очень глубоко связаны не только с левой идеологией, но нередко и с соответствующими институциями, организациями, политическими партиями, тогда как постмодернизм во многом зависит от неоконсервативной реакции на коммунизм. В случае неофициального московского искусства, к примеру, имело место прямое противостояние советской системе.
И.В. – Г.: Касаясь постмодернизма, вряд ли правильно говорить о противостоянии, это понятие не кажется мне в данном случае адекватным.
П.П.: Возможно, противостояние – не самое удачное слово, хотя, как мне думается, критическое противополагание, пусть несколько по-другому сформулированное, здесь присутствует. Постмодернизм есть форма реакции на модернизм, что вытекает из самого названия. Парадоксальным образом он именно в этом своем качестве включается в модернизм, так же, как все типы политического противостояния коммунизму являются частью истории коммунизма, а не какой-либо иной истории. Когда же советская власть рухнула, а вместе с ней исчезла щель, разделявшая надвое западный проект, мир западного локуса приобрел определенную цельность, повсюду заслышались разговоры о единстве и глобализации, и не стало больше места, где современное искусство обитало как ангажированная зона, в которой циркулировало огромное количество весьма важных идей и вещей. Формально эта зона не испарилась, она сохраняется, потому что в наше время сохраняется, не исчезая, решительно все. Но фундаментальный ее статус теперь абсолютно другой. Современное искусство уже не имеет собственной задачи, оно существует в полнейшем от нее отрыве. Все произошло мгновенно, можно даже назвать точную дату перекодировки, совершившейся после второго путча, в октябре 1993 года. С этой поры современное искусство окончательно приступило к обслуживанию не своих задач, переключившись, допустим, на дизайн, декоративные функции, либо же удовлетворяя публицистические, журналистские потребности, став аппендиксом критической или протестной деятельности средств массовой информации.
М.Г.: Ты говоришь о современном искусстве в России или вообще?
П.П.: Я говорю о современном искусстве вообще.
М.Г.: Тогда позволь заметить, что большинство западных художников просто не заметило крушения советского коммунизма, это никак не отразилось на их работе. Развитие западного искусства происходило и происходит совсем по другим законам. И это при том, что на Западе всегда было и есть много художников, остро реагирующих на общественные изменения, но опять-таки вне всякой связи с историческими сроками советской власти и мирового коммунизма.
А.Г.: У меня не замечание, а вопрос. Явилось ли исчезновение щели, где помещалось современное искусство, прямым следствием того, что две главнейшие системные композиции если и не слились в объятиях, то завершили эпоху противоборства? Или это исчезновение – лишь внешний симптом необратимых процессов внутри самого современного искусства, то есть утраты им творческой, художественной воли, что обернулось и заметным оскудением интереса к нему со стороны публики?
П.П.: Я считаю, что исчезновение щели было результатом глобальных преобразований, вследствие чего трансформировался контекст, изменилось целеполагание обслуживающих искусство институций. Но и вся история современного искусства тесно взамодействовала с политикой, с различными версиями западного проекта. Она, эта история, замешана на горячих упованиях, а затем на болезненных разочарованиях в левой политической практике. Передовые теоретики постоянно обсуждали эти вопросы, художники были зависимы от теоретиков, в результате чего образовывалось кольцо взаимовлияний, порождавшее критический дискурс и вчитывание общего смысла в зону искусства. Я говорю о конце Советского Союза, и, хотя ситуацию можно выразить какими-то другими словами, суть ее такова: да, действительно, произошло завершение огромной эпохи, на смену которой пришла новая, иная. И современное искусство, бывшее полем столкновений различных языков и формальных идей, таковым полем экспериментирования быть перестало, причем не когда-нибудь, а сейчас, после крушения советского мира. Разумеется, было бы неправильно устанавливать непосредственную причинную связь, утверждая, что одно явилось прямым следствием другого, – нет, это не так. Однако падение советской власти и аннигиляция былой щели обитания искусства хронологически совпадают, события случились одновременно. Так произошло именно в силу их тесной взаимосвязи и синхронного реагирования социо-политической и художественной систем на мировые процессы. До этого огромного переворота почти все художники были так или иначе политически ангажированы, но что-то, что можно назвать единым внутренним пониманием, держало их в рамках вполне определенных эстетических занятий. Люди находились на общем для них полигоне, где испытывались те или иные варианты языка, формальных структур, дизайна – варианты, предназначенные для будущего. Даже постмодернизм, заявленный как нечто антиутопическое, конечно, содержал в себе утопию. То была утопия и политическая, и эстетическая. Утопия мягкой конвергенции противопоставленных друг другу идеологических миров, утопия мирного, взаимодополняющего сосуществования различных культурных языков, эры конца истории, которая активно обсуждалась в 80-е годы. Предполагалось, что конец истории несет с собой принципиальную новизну, и вот теперь-то жизнь пойдет по-другому. Такое ощущение было у многих, у одних окрашенное в тона пессимистические, у других – в радужные.
Девяностые дали миру само это Новое, продемонстрировав, что никакой новизны быть не может. История, как выяснилось, не только не завершилась, но, наоборот, продолжается и даже в самых архаических формах. Современность опять не наступила, как то бывало уже не раз, а потоки архаичной истории смешались с хлынувшими на них волнами технологических инноваций. Когда мы смотрим фантастико-приключенческие фильмы о будущем, мы замечаем, что грядущие времена там непременно изображены в крайне архаичном обличии, а потрясающими техническими изобретениями завладели псы-рыцари или скифы, мчащиеся по пустыням на электронных конях. Мотив безысходного, вечного возвращения в этих картинах очень силен. Не знаю, ответил ли я на вопрос.
А.Г.: Если современное искусство потеряло свою идентичность и уже не работает над поставленными им некогда перед собою задачами, то в каких рамках вы, как художник, мыслите свою деятельность?
П.П.: Современное искусство как промежуточный слой между элитарным и массовым типами языка в самом деле исчезло. Сегодня может существовать либо сугубо массовая форма культуры, либо, напротив, сугубо элитарная, причем последняя будет уже деиерархизированной, приватной. Поэтому сейчас очень важно продолжать ту деятельность, которая и была нами заявлена, – то есть инспектирование. В каком-то смысле мы по-прежнему занимаемся тем же, чем и всегда: осматриваем и оцениваем. Кстати, заявляя, что никому наших оценок не показываем, мы имели в виду, что их и нет, вернее, они содержатся в самом акте инспектирования. Как ни парадоксально, сейчас эта работа видится мне даже более важной, чем в 80-е годы, хотя мы и тогда предполагали, что скорее всего она пригодится потом, в следующий период. Недавно я прослушал записи наших бесед десятилетней давности – мы все время говорим в них о необходимости создания подвижных условий, гибких, флексибильных языковых структур, которые можно было бы транспортировать в очередной этап, в другой период. Для нас было очень важно вырваться из-под власти актуального, поскольку, находясь в этом облаке, ты неизбежно будешь снесен вместе с ним. Нам же очень хотелось, а может, у нас это и вышло, в таком облаке не быть, но просто смотреть на него, как смотрит на облака человек, чья специальность – наблюдение за ними. Ну, и записывать: вот сегодня они перистые или кучевые. Короче, мы эту деятельность продолжаем, но изменения в ней происходят очень глубокие, продиктованные эволюцией и сменой объектов. В 80-е годы мы существовали в очень уютном и замкнутом кругу, в нем циркулировали, всех посещали, а сейчас этого круга нет, или он выглядит по-другому…