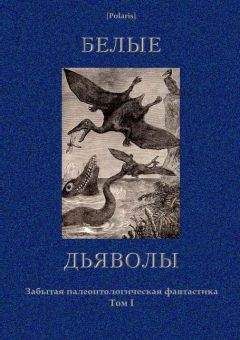Служба еще не начиналась, но возле бокового входа я заметил невысокого старика в темной ризе.
— Простите… Вы… Вы священник? Внимательный взгляд из-под седых бровей.
— Что вы хотите, сын мой?
— Отче, — заспешил я, — мне надо заказать панихиду. Если можно, вечное поминание. За упокой души иерея Азиния, воина Августина и раба Божьего Гарсиласио.
Он вновь кивнул, подумал.
— Они католики?
— Католики, отче.
В Лавре мне отказали. Суровые старцы не желали молиться за души нечестивцев-латинов. Но в Киеве не осталось ни одного костела, ни одного ксендза.
Кроме меня, конечно…
— Вам ведомо, сын мой, что молитва за инославных… Наши глаза встретились, и он замолчал.
— Хорошо. Напишите их имена… Перо цеплялось за шершавую бумагу, буквы никак не желали становиться в ряд.
— Я тоже католик, отче. Я… Я могу тут помолиться? Здесь молились мои предки.
— Можете, сын мой.
Я прошел ближе к алтарю, поднял голову — и вздрогнул. Огромные черные глаза заглянули прямо в душу.
Оранта — Божья Матерь Киевская.
Нерушимая Стена.
Древняя мозаика на сером камне. Рука, благословляющая землю. И пока стоит Нерушимая Стена, быть Руси.
Быть…
Я опустился на колени, я посмотрел Ей прямо в глаза…
…И Milagrossa Virgen Avil протянула мне руку.
Под ногами — пропасть, тонкая гитарная струна дрожит, вот-вот порвется. Но мне не страшно. С Нею — не страшно.
Даже Господь не в силах все простить. Даже ему положен предел милости.
Ему — не Ей.
Ее рука тверда, она в силах вырвать подписанный кровью договор с Врагом, снять с плеч грехи, вырвать заблудшую душу из Джудекки…
Ave, Milagrossa!
Если Ты велишь, я пойду вперед — даже по гитарной струне. Пойду туда, где мне нет места, где меня не ждут.
Пойду!
Оглядываюсь. Черный Херувим исчез, не в силах перенести Ее сияния. Прячься, свиная морда, vade retro, кем бы ты ни был — дьяволом или самим Святым Игнатием. Он святой, я — тоже. Сочтемся!
Слева — гитара, справа — Черная Книга. Струна тонка, ей не выдержать лишнего груза. Херувим велел взять гитару, и он прав. Наверно, я таким и буду на иконе — в голландском плаще и с гитарой вместо нимба. Верный признак святости, верная примета для убийц…
Ее рука протянута. Milagrossa ждет.
Я беру Черную Книгу и делаю шаг.
Струна дрожит, отзывается тихим звоном, дальним эхом асунсьонского карнавала, звоном кастаньет и хриплым голосом пейдаро.
Дрожит, выгибается.
Иду.
Ее рука тверда, и я не гляжу в бездонный провал, жадно дышащий под моими ногами. Но я уже не боюсь. Я видел Джудекку, кожа еще помнит холод вечного льда, прибежища грешных душ. Если Она велит, я готов вернуться туда, ибо с Нею исчезает страх.
Иду.
Черная Книга наливается свинцом, тянет вниз, и даже Ее рука начинает дрожать. Страшная книга, где каждая буква от элифа до йа налилась кровью. Кровью тех, кто уже погиб, и тех, кому еще предстоит умереть. Закон Алессо Порчелли, Аль-Барзах — Промежуточный Мир…
Что я могу сделать? Зачем мне этот груз? Его не вознести на вершину Кургана Грехов в Каакупе, не перенести через черную пропасть.
Они решили стать Богоборцами. А кем хочу стать я? Разве мне одному остановить Общество? Сдержать новых конкистадоров, мечтающих овладеть Грядущим, подчинить, надеть колодку на шею? Лучше все бросить, кинуть Черную Книгу в пропасть…
Я смотрю в Ее глаза. Бирюзовая Дева исчезла, передо мною снова Оранта — Нерушимая Стена. Эта земля еще жива, Джеронимо Сфорца и его присные смогли залить ее кровью, но Стена стоит, и коронное войско тоже стоит у Белой Церкви, и дерется под Киевом истекающее кровью ополчение.
А если она рухнет? Черная Книга и тараканы брата Паоло — только начало. Десятки тысяч иудеев уже бредут в Палестину навстречу призраку, жадные глаза Конгрегации вот-вот заглянут в обитель ангелов…
Странно, я даже не заметил, что пропасть уже позади. Где я?
В Раю?
На Ее лице нет улыбки. На Ее лице — приговор.
Под ногами — знакомая лесная дорога. Узкая, неровная, точно такая, как в Гуаире или Полесье.
Ее рука указывает вперед.
Я ни о чем не прошу. Да и о чем просить изгнанному из стаи Илочечонку, последнему кнежу Горностаю, вернувшемуся на незнакомую родину? Об искуплении того страшного, что лежит на душе? О том, чтобы дело Гуаиры, дело Мора, Кампанеллы и отца Мигеля Пинто победило в этом страшном, залитом кровью мире?
Она и так это знает. Знает — и указывает мне путь, долгую дорогу на Курган Грехов. И может, с его вершины, скинув неподъемный груз вины, я увижу Новый Мир, мир счастья и свободы, ради которого я жил?
* * *
— Сын мой! Сейчас начнется служба. Вы — католик, извините.
— Да, конечно, отче…
Выходя из храма, я оглянулся. Темные глаза Оранты были суровы. Но в них была Надежда.
Ко мне подошли прямо за софийскими воротами. Так и знал! Все-таки не отпустили одного!
— То кнежна ждет, пан Адам! Волнуется кнежна! Сами же видите, что в городе деется!
В голосе Черной Бороды — упрек. Во взгляде — тоже. Его спутник — старый знакомый с длинными усами — держит в поводу лошадей.
Я поглядел вперед, на опустевшую площадь. Внезапно показалось, что возле дощатого помоста мелькнуло знакомое платье. Девушка в маске оглянулась…
Нет, чудится!
— Ехать надо, пан Адам! Ждет кнежна!
На этот раз карету не подают, но на конских чепраках — все тот же герб, когда-то остановивший меня на шумной римской улице. Грозный Гиппоцентаврус, в давние годы пожалованный моему веселому предку, Остафию Романовичу, его дружком, крулем Жигимонтом-Августом.
— То едем, пане Адам? Площадь пуста. Comedia finita. Едем!
* * *
— Ты, дядя, совсем как ребенок! Ну кто сейчас по городу ходит, скажи, пожалуйста? Да еще без гайдуков, без понту!
Востроносая девчонка, кнежна Анна-Станислава, дочь кнежа Михаилы, была явно недовольна своим непослушным родичем. Я невольно залюбовался ею. Без меховой шапки, в которой моя племянница впервые предстала передо мной, она казалась совсем маленькой. А ведь дочери моего покойного брата уже восемнадцать, скоро замуж отдавать!
— Все! Пошли в дом! Сначала обедать, а потом… Ну, дядя, почему ты такой непослушный?
Я становлюсь послушным и покорно позволяю делать со мною, что ее душе угодно. Отправить переодеваться («ну хоть бы кунтуш надел, дядя!»), затем — вести меня в обеденную залу («знаю, что неудобно, но это княжье кресло, тебе в нем сидеть»!).
Я не обижаюсь. Мой брат Михайло умер шесть лет назад, и девочке самой пришлось взять в свои маленькие руки огромные владения Горностаев. Руки оказались крепкими.