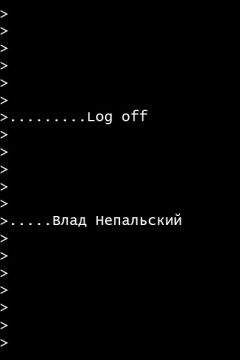— Нет. Как-то не получилось, да и когда в школе учился, на ней внимание как-то не акцентировали.
— Это в начале шестидесятых? Тогда была эпоха волюнтаризма, неотроцкизма, и… и я уже не помню чего. А вы хорошо помните? Вы же в школу, наверное, в пятьдесят шестом пошли?
— Боже, как давно это было… Пятьдесят шестой не помню, пятьдесят восьмой помню, как сейчас.
— А я не помню. Я немного позже родилась. Уже Гагарин в космос слетал. Тогда, наверное, все о космосе мечтали?
— Мечтали. Готовились слетать. Спорили, умеют ли думать машины. Строили высотные здания и планировали покрыть страну сетью скоростных линий. И вообще жизнь была полна чудес и необычайных открытий.
— И полвека не прошло, а совсем другая страна. Про марсианский монолит смотрели?
— Да, в курсе.
— Я вот представляю себе, лет сорок назад — сенсация, марсиане, как их там еще называли…
— Братья по разуму.
— Вот, братья по разуму, наверное, все бы переживали, как будто войну выиграли. Сейчас — в рабочем порядке. Нашли и нашли. Сегодня передавали — решили не трогать, дождаться экспедиции с людьми, марсоход вешку оставил и дальше пошел. Зарегистрировали чудо, цифровую подпись, в банк данных. Я говорю, страна другая. Цифровая страна. Оценки, оценки и оценки, все переводится в числа. Уровень обеспеченности детства, кумулятивные оценки духовного богатства личности, процент рабочих и служащих со вторым-третьим высшим, индекс здоровой жизни… Гордимся перед заграницей яслями, школами, театрами. Вот наш пятый ряд. Держите афишку, я не люблю их читать, пусть будет сюрпризом.
…Артхауса, то-есть того, что Виктор определил для себя как нечто заумное и надоедливое, он так и не увидел. Во-первых, было очень смешно. Спектакль оказался про извечную российскую (а, может, и мировую) глупость. Короче: два чувака, один главный герой неопределенных занятий, то ли журналист, то ли фрилансер, и другой, которого звали Прохор, типа бизнесмен, намылились в столицу, чтобы самореализоваться. И самореализовывались они, в основном бродя по ресторанам и разным тусовкам, где тоже принимали на грудь, и главный герой в конце концов попал в дурку, то ли от пьянства, то ли от окружающего махрового дебилизма, который доставал их так, что поневоле хотелось нажраться.
Действительно, когда человек ежедневно видит вокруг себя менеджеров, которые умеют не управлять, а только 'спрашивать с людей', ни черта не разбираясь в деле, когда этнические преступные группировки срослись с бизнесом, чтобы сделать население бесконечной жертвой мошенничества, когда человек вынужден безуспешно доказывать во всех судах страны, что по-наглому украденное у него — это его собственность, когда успешные люди — это особи, у которых на языке нет иного слова кроме 'отнять', с обслуживающим их интересы шоблом, у кототорого на языке нет иного слова, кроме 'выпросить' и 'выждать', и, самое главное, когда не видно абсолютно никаких возможностей все это изменить, потому что нет иного общественного мнения, кроме бесконечного трепа, а будущее видится только в новых прожектах, как заставить народ работать больше, получать меньше, и чтобы он при этом не бунтовал, наш человек поневоле потянется к бутылке. Это все про роман Салтыкова-Щедрина, если кто сразу не понял.
Режиссер перенес действие в наше время, герои ходили в современных костюмах, даже на сцене стоял монитор, а часть декораций на фоне изображалась лазерным проектором. Прохор был без бороды и совершенно не походил на купца девятнадцатого века; скорее, президент какой-то крупной компании. Заканчивалась постановка сценой в дурдоме, где больные обсуждают с врачом возможность бунта: 'Что ж… это можно! Наши бунты хорошие, доброкачественные бунты, и предмет их таков, против которого никогда бунтовать не запрещается!' — разъяснял доктор, и больные, счастливые от дарованного им права волеизъявления, покорно шли на обед, под водительством лидера оппозиции, которого тоже назначил врач.
…- Знаете, сейчас есть такой проект, — сказала ему Вероника, когда они вновь вынырнули в ночную свежесть из гардеробной суеты (театры начинаются с вешалки, а кончаются очередью в гардероб), — восстановить на этой площади гранитную брусчатку и поставить пару фонтанов в античном стиле со скамеечками вокруг. Как вы думаете, будет смотреться?
— Наверное. Но в это время года здесь будет смотреться палатка с кофе.
— Кафе есть в сквере. Вы не голодны?
— Нет, ничуть. А вы?
— Нисколько. Ну, а Жеронский-то вам как? Я смотрю, вы хохотали все действия.
— Нет слов, знаете, просто нет слов… Смело и вообще удивительно, как это все разрешили.
— Кто будет против? Первый секретарь обкома лично цветы приносил! Наша страна должна со смехом расстаться со своим прошлым, пока оно не стало будущим. Сталинизм — это модернизация.
— Хм, а как же при Сталине за анекдоты-то?
— Так вы видели в пьесе, откуда это шло? Все эти прожекты о расстрелянии, об оглушении? Из старой, крепостнической Руси. И первые десятилетия нового государства общество по старой привычке все это считало нормальным.
'А ведь в чем-то она права', - подумал Виктор, вспомнив, как они с Веселиной целовались в кустах во время ночных арестов в третьей реальности. Кстати, эту даму тоже на букву 'В' зовут… Чушь, совпадение.
— А вот Прохора я как будто даже где-то видел, — задумчиво произнес он, пытаясь съехать со скользкой, как ему казалось темы, — даже в имени что-то мрачное, пророческое.
Он внезапно вспомнил, где он видел Прохора — на афише политической рекламы в своей реальности — и тут же усомнился, в ту ли сторону он начал съезжать с темы. По счастью, Вероника изменила ход разговора сама.
— О, у нас режиссеры мрачные пророчества любят. Вы смотрели 'Бакенбарды' Юрия Мамина?
— Что-то слышал, — ответил Виктор, и чуть не добавил — 'в период перестройки и гласности'.
'Стоп', - подумал он в следующую секунду, — 'тут же такого не было, что тогда показывали. Или было, но молчат?'
— Ну, это притча, антиутопия… Фантастика, в общем. Показано, если государство заплывает жиром, становится немощным, допускает безнаказанность, то-есть, права, закона нет, то это государство заменяет грубой силой первый, кто понаглее и язык хорошо подвешен.
— А. понял. Фильм-предупреждение. Вы не возражаете, если я вас провожу?
— Так вы вроде уже провожаете, разве нет?
— Ах да, конечно. Тогда в какую сторону?
— Садимся у гостиницы. Можно на моторе, но, знаете, я больше люблю троллейбусы. В моторе люди сидят молча, и каждый вроде сам по себе. Удобно, но не совсем уютно. Знаете, в детстве жутко мечтала о машине, как все в Союзе. Даже водить выучилась. Сейчас — нет. Все время думать, чтобы ни на кого не наехать…
На площади Ленина с фасада бывшего исполкома ярким рубиновым светом полыхали электронные часы. Памятник вождю пролетариата стоял в лучах прожекторов, и, от их голубоватого сияния, на окружавших постамент клумбах неестественно отчетливо сияли последние цветы сентября — красные хризантемы, белые астры и желтые календулы.
— Наверное, троллейбусы сейчас редко ходят, — задумчиво произнес Виктор, — уже скоро десять.
— Они ходят до часу, — пояснила Вероника. — Да, Светлана Викторовна предупредила меня, чтобы я не интересовалась вашей биографией, не волнуйтесь.
— Ну, мне-то что беспокоиться. Раз вы не побоялись пойти в театр с такой темной личностью…
Губы Вероники на мгновение сложились в легкую улыбку.
— Нет, вы не темная личность. Я все понимаю.
Она остановилась чуть поодаль от остановки, у входа в гостиницу 'Десна', закрытого строительными лесами; аскетичному хрущевское здание с лоджиями переделывали фасад, приводя в соответствие ампиру бывшего исполкома на другой стороне площади.
— Давайте я лучше о себе расскажу. Я была замужем, у меня дочь, уже взрослая, в этом году прошла в Рязанский радиотехнический по девяти баллам, вполне самостоятельная. Ну и личная жизнь у нее тоже самостоятельная.
— А разошлись давно? Извините, если это неприятный вопрос…
— Вопрос вполне законный. Мы не расходились. Познакомились мы случайно, в культтоварах, что у Цыганского гастронома, выбросили 'Зеркало души', меня чуть не затоптали, он вытащил и взял на меня диск, так на почве дисков и завязалось. Это сейчас на компашках навалом, а тогда кто-то что-то доставал, меняли, перезаписывали… А у него всегда можно было найти ну буквально все, от Высоцкого и эмигрантов до Пинк Флойд и Жарра. Называл себя языковедом, говорил, что изучает редкие диалекты каких-то народов. Получила диплом, поженились, он стал часто пропадать в многомесячных загранкомандировках… Ну, конечно, притаскивал оттуда 'дифсит' и березочные сертификаты, все это мне тогда уже казалось не главным, но думала — не худший случай, у кого пьет, у кого к другой ушел, в общем, так. У него была куча книг про языки африканских народов, обычаи каких-то племен, кассеты с ихним выговором, тетради с какими-то схемами по лингвистике, вроде как исследования. Занимался спортом, легкой атлетикой, карате, это жутко модно тогда стало карате, я еще думала, ну, хочет в моих глазах выглядеть, как Митхун Чакраборти, наверное, я, в конце концов, тоже на аэробику ходила. Потом в один прекрасный день прислали извещение, что он пропал без вести где-то в Анголе, в районе местного конфликта, при эвакуации научного персонала, так написано было. Где-то через неделю, вечером, после работы, звонят в дверь, открываю — стоят мужчина и женщина, представились, документы показали. Женщина была как раз Светлана Викторовна. Вручили орден Красной Звезды, медали 'За укрепление боевого содружества', 'За боевые заслуги', 'За отвагу'… личных вещей, как сказали, доставить было невозможно, ну, в общем, вы понимаете. Расспрашивали, как живу, в чем трудности, мы тогда в хрущевской двушке жили на Северной, туда, к Медведева идти. Собственно, как и что, не рассказывали. Вскоре дали ордер на трехкомнатную у Самолета, пенсию на книжку перечисляют до совершеннолетия Лизы. Светлана периодически наведывалась, вроде как подруги теперь. Вас я спрашивать ни о чем не буду. Наверное, тоже будете уезжать в командировки.