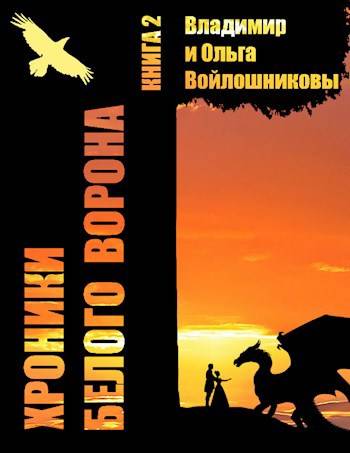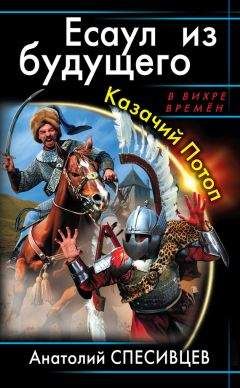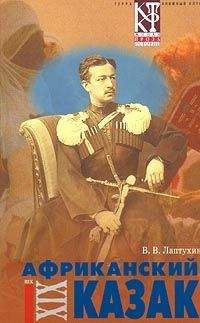и что они тудой понапихали — никто не ведает. Выдали нам сундук прям перед отбытием, в дирижбанделе его несподручно было на крыше шагохода инспектировать. Так что, братцы-сестрицы, удивляться будем вместе. А радоваться или огорчаться — сейчас и поглядим.
С этими словами я сорвал пломбы и открыл сундук специальным ключом, привешенным на цепочку к одной из ручек. Крышка (да и, как потом откроется, вся внутренность) оказалась оббита переливчатым восточным шёлком — уже красиво. А сверху, прикрывая прочие подарки, лежал небольшой, но дивной красоты шерстяной ковёр.
— Это у кровати хорошо положить, чтоб ноги не студить, из тёплой постели выскакивая, — матушка погладила пёстрый ворс. — Давай, наверно, на стол выкладывай, да?
Отложил я ковёр, а под ним — всякие коробочки со вкусностями — и сухофрукты, и всякие диковинные сласти, и разнообразные орехи, и кофе разных сортов в полотняных мешочках!
Полстола этими угощениями занял, а только небольшой ряд подарков вынул.
Следом снова лежал ковёр, только на сей раз длинная дорожка, свёрнутая рыхлым рулоном.
Все дружно решили, что этой-то на всю спальню хватит раскатать, а то ещё и с углом.
Ниже навалено было столько всего пёстрого и блестящего, что у меня глаза разбежались. И начал я доставать подарок за подарком. Заставил сперва стол, потом верстаки, потом лавки.
Батюшки светы, хорошо, что не на дворе стали распаковываться! Чего там только не было. И всё яркое, переливающееся.
Сперва шелка́. Узорчатые платки, платочки, палантины, странноватого вида рубашки и платья, свёрнутые рулонами отрезы. Газовые и муаровые накидки. Расшитые скатерти. Домашние женские туфельки с вздёрнутыми носами. Усыпанные бисером и каменьями кошельки и кошелёчки…
— А это что за палка? — спросил батя и подёргал торчащую из кучи лакированную деревяшку. — Не идёт. А вон ещё такая.
— Дойдём до палок. Всё вынем — достанутся, поди.
И начали мы выгружать шкатулки. Штук двадцать всяческих шкатулок, да. Серебряные с ажурной сканью, серебряные с эмалью, из драгоценных пород дерева, инкрустированные перламутром. А внутри них — подвески, цепочки, браслеты и серьги. Кольца россыпью. Серебро и золото. С каменьями и без. И просто бусы и браслеты из самоцветных камней.
Потом серебряные подносы и блюда. И какие-то чайники…
В этом месте мастерская начала напоминать развал восточного базара, а место на плоских поверхностях (ну, кроме пола) закончилось. А у домочадцев моих закончились восклицания, остались только невнятные ахи-охи и выпучивания глаз, хотя, казалось, дальше уж некуда.
Пришлось нам с Хагеном выскочить на двор да затащить ещё лавки из-под навеса, где они составлены были для летних уличных посиделок. На них разместилось штук восемь посеребренных кинжалов, к ним — пояса с серебряными накладками, большой серебряный столовый сервиз и на закуску — золотое блюдо с хрустальным штофом в золотой оправе и двенадцатью золотыми рюмками.
— Ну, теперь понятно, что за палки, — нарочито бодрым голосом сказал батя.
Ножки это оказались перевёрнутого чайного столика. Столешница, как и всё сирийское, оказалась пёстро-узорчатой, изукрашенной самоцветными камнями и разноцветными деревянными вставочками.
Мы стояли вокруг этих богатств, как Али-баба, впервые попавший в волшебную пещеру.
— Знаете что, — сказала вдруг Лиза. — Пойдёмте чаю попьём, в себя придём немножко.
И пошли. Даже как будто, знаете, пришибленные слегка этими гостинцами.
Сели в столовой у самовара, маман разливает. На четвёртой кружке она покачала головой:
— Н-да-а-а, размахнулся Великий князь.
Батя усмехнулся:
— Для ихней высоты это, поди, так — мелочи. Вещиц любопытных взаграницах насобирал.
Маман передала очередную чашку:
— Да уж, не нам чета.
Батя хлопнул ладонью по столу:
— И чё теперь? Кваситься будем? И вообще, Дуся! Чё ты к чаю из тех сладостей не взяла ничего?
— Да я как-то…
— Как-то! Марфуша! Сходи, дочка, выбери там каких-нибудь штук пару-тройку коробок.
Ну и пили мы чай с сирийскими угощеньями. Вкусно. Но сладкие-е-е. Если как конфеты к чаю брать, то ничего. А так, скажем. Вместо ватрушки, чтоб съел и насытился — фигушки. Только по крошечкам.
После чая маман с Мартой (деловые!) взяли пару сундучков поменьше (в травной избе несколько таких стоит, под всякое) да все украшения в шкатулочках в них столкали и Хагена припрягли к нам в спальню их притащить.
— Потом, Серафима, будет время, внимательно всё рассмотришь, — многозначительно сказала маман. И сразу стало понятно, что раз Великий князь «жене и дитю» свой подарок адресовал, то и решать: подарить что-то кому из родни или нет, по мнению матушки, Серафима сама должна.
Симе, сидящей в кресле с малышом, кажется, не по себе стало от такой ответственности, но тут в двери стукнулись, и появилась Марта с золотым подносом и рюмками, а за ней — Лиза, с полной охапкой всяких платков.
— Это, Марфуша, на комодик поставь. Лиза, на кровать пока кидай! А ты, Ильюша, в городе будешь, хоть сейфик для украшений присмотри, что ль. Не дай Бог, полезут к нам какие дурнины. Да и глаза чтоб лишний раз не мозолило никому.
Да уж, не было печали — купила баба порося…
Снова появился Хаген, с дорожкой.
— Ну-ка, вот так раскатаем! — командовала маман. — Ай, славно! Длинновато, но резать пока не будем, столик вот тут поставим, он прикроет. Хаген, неси столик-то.
Я глянул на всю эту суету и пошёл в мастерскую. Батя сидел, глядя на развалы и потирая подбородок.
— Бать, как считаешь: по поясу с кинжалом зятевьям задарю? Иначе что мне, солить их, что ли?
— Да один прихвати в подарок. Насчёт земли поедем договариваться — Панкратьичу и преподнесёшь. Мы к нему с уважением — и он к нам также.
— Дело! Только сперва ты себе выбери. И тестю один.
— Выберу уж. Ты, давай вон, возьми короб да серебряную посуду-то туда сложи.
— И куда её?
— А я знаю? Не в мастерской же