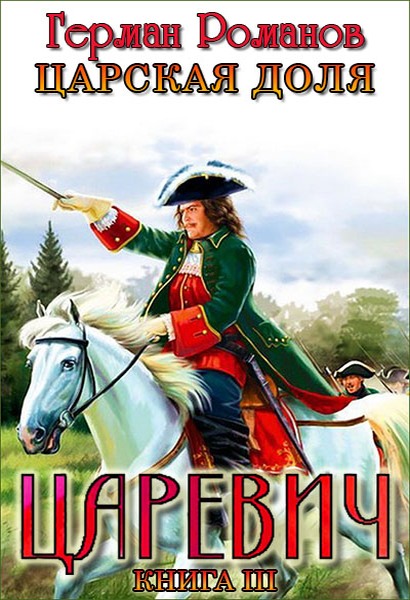царившее напряжение, взял брошенную на стол зажигалку и принялся ее рассматривать, затем наступил черед лампы.
— Зело занятные у тебя вещицы! Не сало там. От какого масла они горят? Больно запах неприятный!
Алексей не ожидал, что Петр согласится приехать на встречу, но письму и доводам Меншикова он, видимо, все же внял. И сейчас в обычной деревенское избе они остались вдвоем — несмотря на сумрак летней ночи, в доме было темно. Окошко, затянутое бычьим пузырем, свет почти не пропускало. Так что лампа предназначалась не только для демонстрации, но использовалась и в чисто прагматических соображениях.
— Занятно, — негромко произнес царь, и резко вскинул голову. — Живым меня отпустишь, али здесь погубишь?!
— Я не ты, и клятвами не бросаюсь, — угрюмо бросил Алексей, и посмотрел на Петра. После увиденного в Твери, всех тех жертв, что умучил несостоявшийся император, он его возненавидел. Можно приводить тысячу доводов, что сделал этот человек для России много хорошего, но никогда нельзя забывать, и тем более прощать все те жестокости, что тот сотворил в своей жизни. Ведь недаром у правосудия две чаши весов, главное Фемиде глаза завязать, чтобы взвешивала беспристрастно.
— Это ты Божьим именем клялся, что не причинишь вреда, а стоило бы мне попасть в твои руки — пытал бы меня лично! Не лги мне тут в глаза, что вскинулся — так оно и было бы. А потом бы умыл руки — предал бы на суд Сената, а те перечить тебе не посмели бы — и смертный приговор вынесли. А там бы меня и запытали до смерти, али Меншиков, Бутурлин с Румянцевым удавили бы в камере. И не отрицай тут, так бы оно и было, в глазах твоих смерть моя, только ты решиться не мог на сыноубийство, повод искал! Разве не так, дражайший вы мой, «батюшка»?!
Алексей посмотрел на Петра — тот насупился, щека задергалась, темные глаза уставились — в них плескался гнев, с которым царь боролся какую-то минуту. Даже страх невольный подкрался на секунду, но был задавлен. Но харизмой от царя так и перло — властный, не терпящий иного мнения, а только свое считавший за правильное.
И горе тому кто попробует его оспорить!
— Другой ты стал, Алешка, иной совсем — не узнаю тебя. Смотрю внимательно — вроде мой ты сын, все в тебе знакомо. Но в глазах твоих ненависть плещется, уверенный в себе стал сильно, и совсем нет страха. Поди, убить меня хочешь?!
— Желаю теперь, скрывать не стану. За все то, что ты натворил в своих жестокостях. Я ведь всю Тверь проехал — многое там увидел. То не христианин, а зверь дикий поделать мог, смерти алчущий!
Слова Алексея словно хлестнули — царь дернулся, глаза стали чуть выпучиваться, как у выловленной рыбы, усы взъерошились. Будь его на месте за столом какой-нибудь сподвижник Петра, ему противоречащий — то от страха бы говорить не смог. Но Алексей был из иного времени, да и здесь повидал достаточно, чтобы не испугаться. В этот момент он чувствовал за собой силу, так что даже рука Петра, ухватившая рукоять кортика, его совершенно не испугала — ведь под рукою три взведенных «пенала».
— Но повторю тебе еще раз — я крест целовал, что тебя не убью здесь, а клятвами не разбрасываюсь. Не скрою — все мои советники жаждут твоей погибели скорой, всячески советовали с тобой расправиться, с женой и детьми твоими. Но не все что можно сделать безнаказанно — стоит совершать! Тем более убивать по подсказкам и наветам других!
— Ванька-каин и прочие, как я понимаю? Изменники они, с рук моих кормились и награждения принимали, и предали…
— Не все так просто, герр Петер, — Алексей усмехнулся, назвать сидящего перед ним человека «отцом» он не мог. — Они тебя боятся до колик, причем все твое окружение, подарки выпрашивают и тихо ненавидят. А потому так, что в любой момент ты в гнев впадаешь и лютовать над ними будешь. И живут они в страхе животном, понимая, что жизнь их зависит от твоих сиюминутных интересов и капризов…
— Поговори у меня, паршивец! Да я тебя…
Петр Алексеевич дернулся, стал приподниматься с лавки — лицо исказилось жуткой гримасой.
— Не лапай кортик, убью! Смотри!
Алексей нажал на рычажок — выброшенное стальной пружиной узкое лезвие ножа попало в лежащую на столе царскую треуголку — шляпу отшвырнуло в угол.
— Теперь вижу, что убить можешь, — Петр убрал ладонь от рукояти кортика, поднял шляпу и хмыкнул. Вытащил пальцами узкую и острую полоску стали, причем уже из-под полы — пробила навылет почти всю треуголку. Повертел в пальцах орудие смерти.
— Чудно задумано, не ведал о таком. И вторую штуку в свою руку ты сразу взял — а я подумал, как сел за стол, что это за пенал у тебя. А ты с самого начала присматривался, как меня половчее живота лишить.
— Как ты меня — не я первый войну начал, а ты меня убить пожелал. Токмо я не захотел агнцем на заклание обреченным быть. Ведь ты просто обнаглел от того, что все тебя боятся, а ты только один можешь миловать или казнить. Не нарывался ты, герр Петер на того, кто тебе ответ достойный дать может, и обнаглел поэтому. И получил под Москвой то, что заслуживал, — от слов Алексея Петр едва сдерживался, но глазами все же посматривал на два смертоносных «пенала».
— Урок на Пруте, тебе не впрок пошел. И чтобы подвести черту под сомнениями, скажу сразу — тебя отцом своим не считаю, ибо ты сыноубийство задумал совершить, а потому сына отныне лишен. Даже больше тебе скажу — мое убийство для тебя самого боком бы вышло, малой твой сын умер бы через год после моей казни, день в день, а ты бы с ума сходил, и кричал раскаянно — «то вина моя, вина!»
Алексей встал, от злости его затрясло, он почувствовал волну гнева — хотелось выпустить два лезвия в грудь ошеломленного его вспышкой Петра и тем закончить разговор. Но все же сделав несколько глубоких вздохов и выдохов, он взял себя в руки и уселся за стол.
— Ты умрешь собственной смертью через шесть лет и шесть месяцев, я не хочу менять тебе предначертанное. Умирать будешь две недели, страшно кричать при этом так, что за версту слышать будут твои стенания. И скажешь — «посмотрите какое бедное животное есть человек». Я бы мог многое тебе рассказать, однако не стану — теперь ты знаешь о