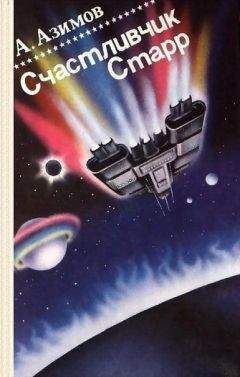Рустам, слуга, только что прошедший через соседнюю комнату, чувствует, как над ним что-то скользнуло, как будто пролетел невесомый шелковый платок. Его глаза блеснули, взгляд интуитивно следит за тем, чего он не может увидеть. Интересно, ляжет ли он сегодня ночью спать у двери своего хозяина, как нередко делал в прошлом? Нет. Это было бы бесполезно. Древние народы, предки Рустама, знают о существовании подобных вещей и знают, что ни двери, ни люди, ни даже меч не способны уберечь от демонов. Здесь бессильны любые предосторожности, любые действия.
— Фу! Какое отвратительное вино! — сердито восклицает один из молодых мужчин, а потом добавляет: — Сир, этого подлого мерзавца Лове давно пора уничтожить.
— Англичане будут только рады, если мы убьем их представителя, моего тюремщика, — отвечает тот, к кому обращаются «сир». — Как ты думаешь, что они тогда сделают? Это же предатели.
Он больше не император, но его по-прежнему называют «сир», хотя, как ему сказали, этот титул больше ничего не значит — и никогда не значил.
Две женщины ожесточенно спорят о чем-то вполголоса. Кто-то шикает на них.
Бывший император хочет получить свой кофе. Потом он захочет сыграть в шахматы или в карты. Потом почитает им греческую пьесу или французскую пьесу Расина, поговорит о давно минувших днях. Всегда одно и то же. Он задержит их до полуночи, а то и на всю ночь, выжмет из них все соки, измотает, опустошит, потом отбросит прочь. Даже во время диктовки записок о своей жизни и сражениях он может продолжать до бесконечности шагать по комнатам, бросать свои точные, превосходно выверенные фразы, поскольку классическое образование, полученное в юности, сформировало его речь, как войны сформировали его гений. Он продолжает свою декламацию десять часов подряд, но его секретари не выдерживают, они засыпают или даже теряют сознание. Тогда он вызывает других. Он истощает их, доводит до изнеможения. Бывший император в некотором роде вампир. Он и не подозревает об этом, а если ему скажут, не поверит, придет в ярость. Он редко — никогда? — способен на сочувствие. Потому что он — центр Вселенной. От начала и до самого конца. А они — все остальные — второстепенные игроки, бесполезные, поддающиеся влиянию, незначительные.
Невидимая тень теперь висит на потолке, словно паутина. Но она смотрит вниз, внимательно наблюдает. Вот частица бесформенной массы вытягивается, неспешно опускается к полу. И одинокая крыса, вышедшая из деревянного буфета, чтобы прогуляться до щели в обшивке, шарахается в сторону, уклоняясь от прикосновения.
Он вспоминает… или ему снится… то ли огни горящих русских деревень, то ли походные костры в Париже на берегу Сены в ту ночь начала последней стадии падения — город полон его врагов, а его молодая императрица уже сбежала…
Огни. Гениальность — огонь, посланный небесами, не всякий мозг способен его принять.
Повеяло тонким благоуханием. Этот аромат знаком ему — не запах мазей, которые она собственноручно изготавливала, а потом втирала в темно-рыжие завитки волос, а присущий ей одной сладковатый запах. О да. Однажды он писал ей: «Я спешу к вам — не мойтесь». Она была одной из тех редких женщин, кожа которых никогда не приобретает нечистого запаха, как и ее дыхание, когда она говорила с ним по утрам, — сладкое, всегда сладкое, и ее очарование только усиливалось, если она воздерживалась от ванны.
Мария Жозефа. Жозефина.
Он открывает глаза и в сумрачной полутьме маленькой спальни видит ее стоящей возле камина. На ней белое платье. Это не одно из тех скандальных платьев, что много лет назад носили в Мальмезоне некоторые из ее подруг, вроде тех, что при попадании воды становились прозрачными. Это одеяние императрицы. А на голове у нее золотой королевский венец, тот самый, что он сам на нее возложил. В ту ночь после коронации, когда они остались одни, она надела диадему специально для него.
Жозефина.
— А вот и я, — говорит она.
На вид ей немного за двадцать, как в тот день, когда они впервые встретились. В ушах мерцают жемчужины. Кожа свежая и цветущая. Красивая женщина. Единственная, кого он действительно любил — почти.
— Ты совсем не скучал по мне, — говорит она.
— Всегда.
— Нет, никогда, как только я постарела.
— Ах, Жозефина. Но теперь… ты снова молода.
— Все это время я ждала тебя. Однажды я видела тебя в Мальмезоне, ты одиноко сидел на троне и горевал по мне. Неужели ты не хочешь быть со мной сейчас?
— Больше, чем могу выразить словами, — вздыхает он. — Лежать в твоих объятиях. Отдыхать возле тебя.
— Так почему бы тебе не прийти ко мне?
Что-то ударяет в него — жестко, словно пуля. Старая рана в ахиллесовом сухожилии — как символично — начинает болеть. Он приподнимается на локте, ощущает болезненную пульсацию в животе и понимает, что полностью проснулся.
— Кто ты?
— Я Жозефина! Помнишь тот домик и красные герани, цветущие в горшках, цветы, привезенные мной с Мартиники. И Храм Любви в садах…
Он пытается рывком соскочить с кровати, но встает с трудом. Голова кружится, опять эта лихорадочная слабость, обычная в зараженной малярией дыре, куда сослали его англичане, чтобы уморить наверняка.
Когда он наконец спускает ноги на вытертый ковер и поворачивает голову, она исчезает.
Да, это лихорадка. И ничего больше. Короткий приступ горячки. Но как это на нее похоже — заставить его спешить к ней навстречу даже ценою жизни — именно этого хотела бы призрачная Жозефина. Она всегда сначала пыталась отослать его подальше, чтобы самой развлекаться с другими. А потом, когда он влюбился в ту польскую девочку, тогда Жозефина захотела быть с ним рядом. И теперь, появившись из потустороннего мира, которого не может быть, она нетерпеливо спрашивает: «Почему бы тебе не прийти ко мне?»
Он покачивает головой. Снаружи в небольшом разрыве между тучами поблескивают звезды. Он вспоминает, как однажды спросил: «Скажи, чего бы ты хотела, если бы не было творца, который создал все это?»
Когда свеча разгорается, он встает и идет осматривать то место, где стоял призрак. На полу, кажется, появился тончайший налет белого порошка — похоже на пудру, которой она покрывала лицо и плечи, — но нет, ничего подобного, это наверняка осыпается штукатурка.
Тяжело дыша, он снова взбирается на кровать, нездоровая полнота, не имеющая ничего общего с перееданием, вызывает испарину. Острый приступ непереносимой боли хищными когтями рвет внутренности. Отвратительно. Он догадывается, что дальше будет еще хуже. Завтра, чтобы успокоить боль, он проведет несколько часов в горячей ванне.
Но и в таком состоянии он способен заставить себя уснуть, как дикое животное. Он засыпает и видит во сне Жозефину в окружении привезенных гераней. Рядом с ней бегает его маленький сын, подаренный вероломной австриячкой.
Над ним что-то проплывает, но он спит и не может этого видеть. Потом над кроватью колышется нанковая обивка. Утром в спальню войдут Рустам и Маршан, и оба заметят, что ткань на стене в этом месте приобрела зеленоватый оттенок. Естественно, в таком сыром климате и внутри и снаружи появляется плесень, даже мох.
Все его спутники здесь постоянно ссорились между собой, и кое-кто, в слезах или в гневе, приходил к нему с жалобами. В некоторых случаях они общались друг с другом только при помощи записок.
К чему все эти глупости? Его полотном был целый мир, а теперь он заперт в ореховой скорлупке со всеми этими людьми, не способными понять, что своей ничтожностью они только усиливают его вечные мучения. А, да бог с ними со всеми. Если только на свете есть Бог.
Он вспоминает два других острова. Заросшие лесом скалы страны его раннего детства и остров первой ссылки, покрытый мантией горных сосен и фиговых деревьев. Бродя среди его виноградников, он сетовал, что «это место слишком мало».
Вероятно, кто-то услышал его жалобы. Если не Бог, то какой-то другой слабоумный тиран. Если остров Эльба казался ему слишком маленьким, то что же говорить об этой крошечной точке?
И на Эльбу позволили приехать его матери, тогда она привезла ему все тщательно собранные деньги, позволившие финансировать возвращение к берегам Франции.
Он думает о верной гвардии, которую тогда ему разрешили взять с собой на Эльбу, об их восторженных криках, об армии, впоследствии перешедшей на его сторону. Он вспоминает марш на Париж, о высланных ему навстречу войсках, о тысячах и тысячах солдат, о том, как он выходил перед своими немногочисленными отрядами, стоял перед ними безоружный, в распахнутой шинели и кричал: «Если вы хотите убить своего императора — вот он, перед вами!» И тогда все эти тысячи людей, словно спущенные с цепи псы, присоединялись к нему с криками «Жизнь за императора! Жизнь и слава!».