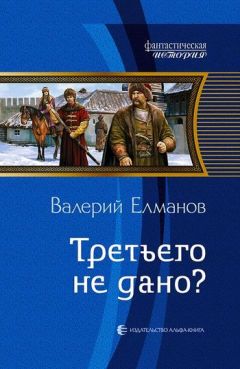– Так ведь клобук не гвоздями к голове прибит, – нашелся Федор Никитич. – Придет время, и скинешь.
– В расстригах буду. Тоже не больно-то весело.
– А тебе-то не все равно?
– Да, пожалуй, оно и впрямь, – пожал плечами Юшка и, получив от Романова кошель с серебром, мгновенно исчез.
И сейчас уже подвешенный на дыбу Федор Никитич продолжал колебаться – сказать или нет Годунову всю правду. Однако боль прекратила колебания, пришлось выкладывать, но хитро. Поведал лишь о том, что ушел сын стрелецкого сотника Юшка Отрепьев. Когда и куда – тут он ничего не ведает.
Семен Никитич не удовлетворился кратким ответом, а махнул рукой подручным, чтоб продолжали. Спустя еще несколько минут окончательно потерявший силы и охрипший к тому времени от крика Романов поведал Годунову, что пошел он, как ему мыслится, к западным рубежам, в Литву.
– А пошто отпустил? – не унимался Семен Никитич.
– Жаль взяла, – хрипел, подвывая от боли, Федор Никитич. – Вовсе молодой, к тому же родич, а ты бы его небось тоже на дыбу.
– Юшку твоего точно вздернул бы, – согласился Годунов. – Вор он, а сидючи в осаде на твоем подворье вконец заворовался – стрельца убил, а может, и двух. Но допрежь скажи про другого, с коим ты о царевиче гово́рю вел. Кто он таков?
– С ним и вел. Он вопросил – я и ответил. Да царевич-то тут при чем? Сам сказывал – незаконный, да и сгнил уж давно поди.
– Э нет, – хитро ухмыльнулся Семен Никитич. – Отрепьев – ражий[63] детина, а тот вовсе малец летами.
– Путаешь ты чтой-то, боярин, – упрямо прошептал Федор Никитич, понимая, что тут честный ответ лишь усугубит все окончательно.
– У меня послухи николи не ошибались, – возразил Годунов.
– Ан разок дали-таки промашку, – не сдавался Федор Никитич, мечтая о единственном – потерять сознание, чтоб не чувствовать дикой боли в предплечьях.
Годунов властно махнул рукой, и Федор Никитич даже успел удивиться – казалось, что сильнее болеть уже не могло, некуда, ан поди ж ты…
Но удивление длилось недолго – на небесах кто-то сжалился над узником, и он, как и мечтал, ушел в беспамятство.
Последующие дни результата тоже не принесли. Старший Романов упорствовал в своих показаниях, а прочие – Годунов чуял это – вовсе ничего не знали.
Искренне недоумевая, отчего вдруг у следствия объявился неизъяснимый интерес к Отрепьеву, говорили они о нем охотно, не считая должным что-либо скрывать, хотя никто, кроме брата Михаила, толком о нем ничего не знал.
После трех дней допросов Семен Никитич уже решил было, что Бартеневу помстилось, но тут его неожиданно осенило – что, если окаянный Юшка ушел не один, а как раз с тем, кого описывал бывший казначей Александра Романова?
Тогда все сходилось и укладывалось, кроме одного – кто этот второй?
Но Федор Никитич на все расспросы отвечал, что он боле ничего не помнит, ибо новиков у него на подворье хватает, а таить что-либо от государя он не собирается и в подтверждение истинности своих слов готов на иконах побожиться, что как только сам Годунов подсобит ему и назовет не только имечко отрока, но и чей тот сын, так он, Романов, мигом все припомнит и тут же выложит, ровно на блюде.
Семен Никитич к тому времени успел порасспросить дворню, но те мямлили несуразицу или вообще все путали – один так и вовсе хоть и припомнил этого юноту, но назвал его Отрепьевым, чего быть никак не могло, и получалось все не слава богу.
«В конце концов, – решил окольничий, – беда невелика, коли эта парочка сбежит в Литву», – и прекратил следствие.
Правда, рогатки на приграничье выставили, выслав несколько сотен стрельцов, чтоб перехватить Юшку Отрепьева и его спутника, но безрезультатно.
Что касаемо Романовых, то царь сдержал обещанное слово – на плаху никто не попал, всем была назначена только ссылка. Лишь одному человеку он сделал добавку, впрочем, не выходя за рамки данного им обязательства, – велел постричь Федора Никитича в монахи.
Скорее всего, не забыл Борис Федорович жадного взгляда старшего из братьев Романовых, устремленного на царский скипетр, потому и отдал такое распоряжение, чтоб больше не мечталось о чем не следует.
Да заодно постригли и его жену.
На остальных братьев Романовых, равно как и на их многочисленных родичей – Черкасских, Репниных и Сицких, рясу надевать Борис Федорович не велел.
Пусть надеются на царскую милость, ибо надеющийся на что-то не так опасен, как потерявший все…
Глава 11
Лекарь умер – да здравствует философ!
Когда Квентин пришел в себя настолько, что был в состоянии выдержать дальнейший путь, я уже знал последующий маршрут движения, но вначале отправил обратно в Москву Ахмедку и Игнашку с его молчаливым спутником.
Кстати, дознатчик так вошел в азарт, что ни в какую не хотел возвращаться, уверяя меня, что он куда нужнее окажется в Путивле. Может, оно и так, но уж больно разношерстная компания подбиралась. Настолько разношерстная, что только один ее состав мог навести на ненужные подозрения.
Пришлось схитрить и заявить Князю, что я бы и сам с радостью прихватил его, но вот беда – пришел к выводу, что в обучении моих самых лучших разведчиков, которые, по сути, тоже являются дознатчиками, разве что военными, как раз по этой линии имеются существенные пробелы, кои необходимо восполнить.
– А восполнить их в силах только один-единственный человек – это ты, Игнатий, – торжественно заметил я.
Бедный Игнашка вначале даже оглянулся, не понимая, к кому я обращаюсь, – уж больно непривычно ему было слышать свое полное имя. Лишь чуть погодя до него дошло, что Игнатий не кто иной, как он сам.
Кстати, действительно, искусство перевоплощения и умение вызнать все необходимое в обычном и на первый взгляд пустопорожнем разговоре – вещь чертовски необходимая.
И как это я раньше не додумался использовать Князя для такой учебы?
Я быстренько сочинил записку, адресовав ее Зомме, где растолковал, для чего принимаю нового учителя на временную службу в качестве наставника ратников особой сотни.
Вот только с оплатой возникала проблема.
Если отстегивать столько же, сколько я платил ему во время поездки в Углич, то возмутятся не только десятники, но и стрельцы-сотники – им-то причитается в два раза меньше. А коли подрубить ее, сделав как у них, может заартачиться сам Игнашка.
Но когда я осторожно намекнул насчет суммы, Князь даже не колебался, охотно кивнув головой.
– Сей почет дорогого стоит, – пояснил дознатчик свою уступчивость.
– Но обучишь их… за три месяца. Хватит тебе времени? – осведомился я.
– Негусто, – пожал плечами Князь. – Но ежели призадуматься, им особливой тонкости не надобно. То в гово́ре о своем злате-серебре народец недоверчив, а коли дойдет до чего иного, лишь подпихнуть чуток, и вмиг запоет, яко соловей, так что не сумлевайся, княже, уложусь.