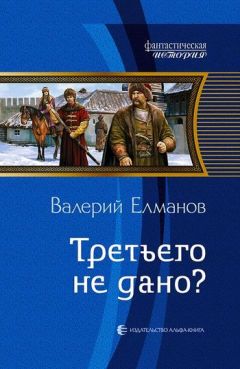Завязать перестрелку почитай чуть ли не под самыми польскими окнами – эвон как их башня[60] возвышается, прямо оттуда все видать, – такого царь нипочем бы не простил.
Пришлось посылать к Семену Никитичу человека, но гонец оказался бестолковым и потратил часа три на его розыски.
Когда же сыскали, окольничий тоже отказался принимать столь серьезное решение, памятуя о клятых ляхах, прикативших столь не вовремя, и отправил вестника к царю, в Вознесенский монастырь.
Но и туда удалось попасть не сразу. Борис Федорович находился коленопреклоненным близ захоронения любимой сестры Ирины, и гонца к нему бестолковая немчура из царской охраны поначалу наотрез отказалась пропустить.
Мол, государь повелел никому его не беспокоить.
Пришлось возвращаться к Семену Никитичу и уже вместе с ним повторно идти в монастырь. Опять-таки и Борис Федорович принял решение не сразу, вдруг, а некоторое время размышлял и колебался.
После всего этого гонец – на сей раз по государеву повелению – вскачь понесся к Сухаревским воротам Скородома, где размещались ближайшие стрелецкие слободы.
Словом, пока подьячие ждали, уже стемнело – день выдался пасмурный, а потому большой отряд в пять сотен стрельцов явился к подворью Романова не только вооруженный до зубов, но и с зажженными факелами, так что о скрытности оставалось забыть.
Зато на штурм ворот пошли бодро, не таясь, чего уж тут, и оттого потерь почти не было – всего-то пяток человек, которых завалили особо ретивые холопы Федора Никитича.
С убивцами особо не чинились – рассвирепевшие стрельцы прикончили их сразу, не догнав лишь одного отчаюгу, который сумел лихо свалить обоих сторожей, выставленных позади подворья, чтоб никто не утек, и убежать в неизвестном направлении.
Искали, конечно, но Москва велика – поди полазь в потемках.
Потому Федора Никитича в пыточную приволокли лишь на следующий день. Однако Семен Никитич поначалу отчего-то стал задавать ему вопросы, касающиеся не готовившегося супротив государя бунта, а иные, коих старший из братьев Никитичей вовсе не ожидал и оттого поначалу опешил.
– Отрока мне повидать хотелось бы, коего звать Юрием и с коим в тайной беседе ты, Федор Никитич, отчего-то поминал угличского Димитрия, незаконного сына государя Иоанна Васильевича[61].
– Мало ли у меня отроков, всех не упомнишь, – с вызовом откликнулся боярин, выгадывая время и стараясь понять, что еще знает об этом отроке Годунов. От этого зависело и как именно надлежит отвечать.
Однако Семен Никитич был воробей стреляный, тайным сыском ведал не первый год, а потому сразу приметил тень растерянности, скользнувшую по лицу Романова, и постарался не дать допрашиваемому передышки.
– Ты, Федор Никитич, либо вовсе дурак, либо в одночасье и впрямь последний умишко растерял. С тобой же покамест по-доброму речь ведут. Ежели мы о бунташных делах твоих гово́рю заведем, тогда уж все – из-под топора не уйти…
– А мне так и так из-под него не уйти, – хрипло выдохнул Федор Никитич.
– Э нет, милок. Борис Федорович у нас добрый, даже излиха, потому и велел тебе передать, что, ежели отдашь отрока – милость явит. А его слово крепкое – сам ведаешь, коли что пообещал как уж не отступится.
– А не посулился он задавить тихонько, чтоб не мучился? – ехидно осведомился Романов.
– Отчего ж так худо о своем государе мыслишь? Жить будешь, уж ты мне поверь. Сошлет, конечно, не без того, да ведь тут иное главней – где-нигде, а жизнь есть жизнь. Опять же без вони московской, без галдежа уличного, на свежем воздухе, и людишек с собой дозволит взять для услужения, и братьев твоих терзать мне будет ни к чему.
– Не ведаю, о чем ты, – упрямо повторил Федор Никитич, тем более что он действительно понятия не имел, где сейчас Юрия отыскать.
Едва на его подворье появился гонец от брата Михаила, как он тут же метнулся к Юрко – сопляк должен исчезнуть.
Если насчет бунта, то тут поди докажи еще, что он собирался делать, коли о том знали пока лишь четверо его братьев да еще кое-кто из родовитых. Но после того, как на дыбу вздернут «царевича» и тот выложит все, что якобы знает, останется лишь самому молить бога о смерти.
Был бы лишний день в запасе, самолично сварил бы кое-что да угостил сопляка пахучим медком, а теперь приходилось спасать – иначе и самому смерть.
Да и жаль было собственных трудов.
С тем и взбегал наверх, однако в опочивальню подняться не успел, нос к носу столкнувшись с Юшкой Отрепьевым.
– Упредил я его, – коротко сообщил тот. – Одевается.
Нужное решение пришло в голову боярину сразу же.
– Ты сейчас загляни ко мне, – распорядился Федор Никитич. – Возьмешь кошель с серебром, его, – кивнул он в сторону двери, – прихватишь, и уходите вдвоем. Одна надежда ныне – на тебя. А опосля выведи его из Москвы да проводи до рубежей.
– Затемно уйдем, – деловито кивнул Юшка и уточнил: – В Литву?
– Знамо, туда, – кивнул Романов.
– А далее нам с им куда и что?
– Далее… – протянул Федор Никитич и задумался.
С одной стороны, негоже оставлять юноту одного – жизни вовсе не ведает.
С другой – а что им вместе делать?
И опять же в душе еще теплилась надежда, что вдруг не все потеряно.
Да, многое, пусть очень многое, лишь бы не все. А тогда можно сызнова попытаться, и этот мальчишка очень даже пригодится, если, конечно, не пропадет.
А чтоб не пропал…
И вновь его осенило простое решение.
– Далее пусть он покамест в монастыре схоронится, а ты обратно сюда. Да на подворье ко мне сразу не суйся – допрежь разузнай, что к чему, а уж опосля… И, ежели меня нет, искать не спеши, лучше выжди немного. Сыщешь место?
– У меня в Чудовом монастыре брат деда Замятня кой год в келье грехи замаливает, – криво ухмыльнулся Отрепьев.
– Вот и славно, – обрадовался Федор Никитич. – А у меня как раз тамошний игумен в знакомцах. Только… – Он вновь сделал паузу, прикидывая, как лучше, и продолжил: – В мирском сюда не суйся, чтоб после никто не судачил. Прими где-нибудь постриг, а уж потом в Чудов. Да с медком поостерегись – не буянь там нигде, а то живо сыщут, – почти просительно предостерег он.
Умоляющий тон властного боярина Отрепьеву пришелся по душе.
– Нешто сам не смыслю? Покамест все не сполню, вовсе к нему, проклятущему, не притронусь, зарок даю, – заверил Юшка боярина. – Тока вот с постригом как-то оно не того… – замялся он. – Не люблю я жизни монашеской. Не личит[62] она мне.
– Так ведь клобук не гвоздями к голове прибит, – нашелся Федор Никитич. – Придет время, и скинешь.
– В расстригах буду. Тоже не больно-то весело.
– А тебе-то не все равно?