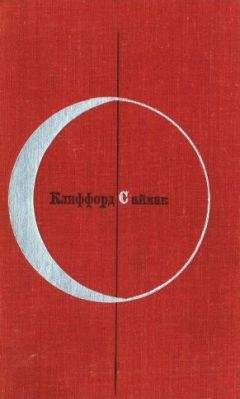сохранность большого лабаза на высоких шестах (в Сибири часто делают такие
хранилища из опасения, что медведь похозяйничает в отдаленных зимовьях); я
что-то крикнул; они как-то странно на меня посмотрели; я крикнул еще что-то и
тут с ужасом обнаружил, что кричу на чистом ниппонском языке с каким-то
провинциальным акцентом.
Хотя я тут же, собрав силу воли, заговорил на чистом русском с малороссийским
акцентом, колхозники, которые вчера смотрели в сельском доме культуры
остросюжетный фильм о ниппонских диверсантах, среагировали молниеносно. Не буду
описывать мое пребывание в контрразведке, хотя справедливости ради должен
сказать, что обходились со мной весьма предупредительно (видимо, в издевку над
хваленой ниппонской вежливостью). На следующий день прибыл командир нашего
антидиверсионного отряда — старлейт Гарбузян, опознал меня и забрал с собой,
сделав сухо замечание по поводу моей глупой шутки — разговаривать с местными на
ниппонском языке.
Так я выучил ниппонский, хотя не имею сколько-нибудь заметных способностей к
иностранным языкам (читатель, я думаю, уже догадался, что знание ниппонского
языка пришло ко мне с ниппонской кровью — значит, древняя легенда о Зигфриде,
выучившем язык птиц, совершенно справедлива). С тех пор вся в/ч дразнила меня
япончиком, и это меня очень раздражало. К тому же со временем я обнаружил в себе
тягу к сидению на полу и ничуть не избегал маленьких замкнутых пространств
(впрочем, писать стихи в стиле танка я умел задолго до этих дальневосточных
приключений).
Вернувшись в часть, я узнал о гибели Андрея Титомирова. Он в первый же день
попал на самый передний край — на ту самую амурскую косу, которая сильно
вдавалась в русло реки. В тот же самый день, когда мы в тайге настигли
диверсанта, обстановка на нашем участке границы обострилась: ниппонцы высадились
на отмели и под предлогом ремонта гидрографической станции установили приборы
ночного слежения за нашим берегом. Ночью необходимо было поставить прибор
оптической завесы, и около полуночи на отмели, где ледяная вода доходила до
колен, произошла стычка между покидавшими свою вахту ниппонцами и нашим
полувзводом. Андрей первым бросился на ближайшего к нему ниппонца и заколол его
штыком, но другой выстрелил из базуки и разнес его тело на пять частей. В
следующую секунду граната с нашей стороны убила еще двух ниппонцев и разнесла
всю гидрографическую станцию. Наши и ниппонские прожекторы уже шарили по
фарватеру, когда стороны, понеся значительные потери, отступили к своим катерам
и поплыли назад. То, что осталось от Титомирова, уложили в зарядный ящик, а мы с
Малиновским и командующим нашим пограничным укрепрайоном генерал-майором
Гавриловым стали сочинять письмо его родным. Генерал пообещал, что добьется
награждения его посмертно медалью "За отвагу". Когда же я вернулся в Ленинград,
меня ожидало необычное известие.
АВЕНТЮРА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,
в которой верность является основой чести.
Женщине отнюдь не пристало быть предметом почитания и обожания, держать голову
выше, чем мужчина, и иметь с ним одинаковые права.
А.Шопенгауэр
Ленинград, куда я наконец прибыл восьмого ноября, встретил меня необыкновенной
осенней бесснежной тишиной, еще не убранными транспарантами ноябрьских и
безлюдными улицами по пути от Московского вокзала, что бывает в нашем городе,
хотя и редко. В очереди на такси я стоял за молодой мамой с большим кожаным
чемоданом и маленьким ребенком. И только теперь я со всей ясностью понял, что в
моем мире этого ребенка не существует в живых, а его мама в Париже занимается
под видом студентки проституцией. Глядя на румяного, что-то гудящего малыша, я
вспомнил себя, точнее мою любимую фотографию, где я — двухсполовинойлетний —
стою у клумбы в Орехове и — белокурый и по-юношески серьезный — держу в руках
розу. И только тут мне стало ясно как день, что случись перестройка двадцатью
годами ранее, меня бы тоже не было. Положив на одну чашу весов свою бесценную
жизнь, а на другую желание правозащитников посрать на Красной Площади, я мог
сделать только один выбор. Шофер такси правил неумело, и один раз мы едва не
столкнулись со встречной "Таврией". А вокруг высились громады сталинского
классицизма, один вид которых мог осатанить любого авангардиста.
Виола уехала на несколько дней к родственникам в Новгород, а Вальдемар был один
и очень грустен. Оторвав от календаря вчерашний праздничный листок, я в немногих
фразах поведал о моих дальневосточных приключениях, и даже опять по оплошности
перешел на ниппонский язык. Вальдемар еще больше погрустнел и ответил:
— У нас тут тоже… беда.
— А что?! — взвился я, почему-то вообразив, что речь идет о маме.
— Помнишь студентку с нашего факультета — Аллу Стародумову?
— Да… А что с ней?
— Если ты в курсе, она имела близкие отношения с Андреем.
— Да, он даже хотел вызвать меня на дуэль по поводу твоего, как я понимаю, к ней
интереса.
— Да причем здесь мой интерес?! Дело в другом. Когда она узнала, что Андрей
погиб, она совершила самоубийство — приняла яд.
— Странно…
— Что странного? В вашем варианте истории они не любили друг друга?
— Нет, я не об этом. Я с большим трудом могу представить, чтобы это произошло у
нас.
— Как! Неужели у вас это не принято?!
— Эге, — я стал предельно саркастичен, — как же, так наша — демократическая —
девушка и наложит на себя руки во имя кого бы то ни было!
— Вот тут уж, извини, ты врешь! Я готов поверить любым ужасам, которые
происходят в вашем худшем из миров, но поверить, что любящая девушка останется
столь безучастна к гибели любимого… Это просто нарушение нравственного
миропорядка! Как же тогда наши солдаты смогут сражаться?!
— Ты затронул, на первый взгляд, несколько разных тем, но, в конце концов, они
взаимосвязаны. Наберись терпения, и я объясню, в чем дело.
— И слушать не хочу! Дерьмовый же у вас мирок. Но ничего, скоро этому безобразию
придет конец! Слухи о твоем мире уже распространились кое-где: мы предоставили
секретную информацию — разумеется, не всю — немцам. Там не удержали секрета, и
ныне страна сугубо возмущена. Вон что случается, — он подал мне сентябрьский