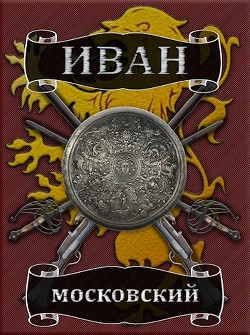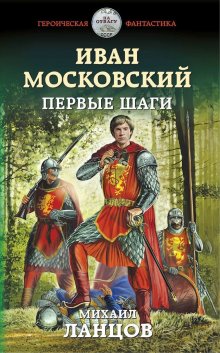— Мне нужно создать в Москве большую публичную библиотеку. И я считаю, что ты, как аббатиса независимого аббатства бригитток, справишься с этой задачей.
— Что, прости? Публичную? Но зачем?
— Это прекрасно сочетается с ценностями ордена. А зачем? Книги — дороги. И я хочу, чтобы каждый, кто умеет читать, мог позволить себе это сделать. Согласись — благая ведь цель. И для ее выполнения потребуется очень много монотонной, рутинной работы. Прекрасный способ и не скучать от безделья, и войти в историю.
— Странные у тебя идеи… — покачала головой Элеонора.
— Но тебя они устраивают?
— Более чем, — усмехнувшись, произнесла она. — Это намного лучше, чем лишиться головы или скрючившись на полу, раздирать себя глотку, мучительно умирая от яда.
— Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Но не расслабляйся. Если ты дашь мне повод, то я без всякого сожаления реализую твои влажные мечты о яде или лишении головы. Или даже превзойду их. И дети тебя второй раз не защитят…
Глава 9
1479 год, 22 августа, Москва
Король стоял максимально неподвижно и позировал для Джованни Амброджо де Предис, художника, который был приглашен в Москву через короля Неаполя. Прибыл в прошлом году. И с того момента непрерывно рисовал портреты. Бытовые и разные.
Вот теперь он и до короля добрался.
Иоанн не хотел сразу становиться «под кисть» первого попавшегося художника. Памятуя знаменитый, но от того не менее юмористический фарс «Двенадцать стульев» он всегда держал в уме тот факт, что не каждый художник рисовать умеет[1]. Поэтому делал заказы попроще. Смотрел. Думал. Делал замечания. Потом новые заказы. Новые замечания. И только когда удовлетворился, разрешил нарисовать себя. Ну, просто потому, что опасался надеть портрет на голову художнику и напихать кисточек в известное место. Жизнь в условиях раннего Нового времени совершенно изменила нашего героя, избавив его от даже призрачных налетов толерантности и прочей чуши. А в купе с положением это привело к тому, что он перестал стеснятся своего мнения. И опасаться последствий этой… хм… свободы слова…
Ведь что такое, по своей сути, толерантность?
Это банальный запрет свободы совести, воли и слова.
Этакий «адский выверт» фальшивого либерализма, при котором все люди должны иметь свободу слова, но только того, какое нужно заказчику. Если же что-то пошло не так и человек имеет мнение отличное от ожидаемого, то это враг демократии и прочее, прочее, прочее. В общем — ему нужно выключить микрофон и сломать лицо, чтобы в следующий раз думал, что болтает.
И это — только один аспект. По сути же своей, толерантность превратилось в самую жесткую и бескомпромиссную систему[2] тоталитарного контроля не только над тем, что ты делаешь и говоришь, но и думаешь. Прямо в духе знаменитой фразы Гёте: «нет рабства безнадежнее, чем рабство тех рабов, себя что полагают свободными от оков».
Иоанн же, оказавшись во главе страны, да еще в это славное время, имел роскошь называть мазню мазней, негров неграми, а людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией п…ми, точнее содомитами, как это было принято в те годы. И не спешил себя окружать жирными темнокожими лесбиянками и буйными трансгендерами, из страха за то, что «прогрессивная общественность» его осудит, а какое-нибудь очередное общество по защите прав животных засудит за оскорбление чувств верующих или неприятие очередного BLM[3].
Так вот.
Художник.
Даже бы если он и не умел рисовать, несмотря на рекомендации, ему всегда можно было бы найти применения. Что оказалось бы затруднительным, если бы монарх психанул, увидев свой портрет «работы Малевича». Особенно учитывая особые весьма жесткие требования Иоанна к реализму и правильным пропорциям, проекции и так далее. В общем, ему требовалось не тонкая игра эмоций на щечках Мона Лизы, а крепкий академический рисунок максимально фотографического качества. Ну… насколько вообще можно требовать такой рисунок в эти годы, даже от ведущих художников Ренессанса.
Сейчас же Джованни Амброджо де Предис рисовал его портрет. И король стоически выносил необходимость так долго ему позировать. Ибо был уверен — справится. Ну… наверное. Скорее всего. Параллельно, чтобы не думать о дурном и постоянно не бегать, заглядывать ему в мольберт, обсуждая всякого рода вопросы с Леонардо да Винчи прочно и надежно поселившегося в Москве.
Ведь здесь он нашел самый тесный и полный отклик в лице Иоанна для своих естественнонаучных изысканий. Отчего и сам тут плотно закрепился, и бомбардировал письмами Италию, стараясь привлечь к сотрудничеству с королем Руси ученых и деятелей искусства самого разного толка.
Сам же Леонардо невольно превратился в «главного по тарелочкам» над учеными людьми Руси. Они начали наконец-то прибывать, потихоньку нарастающим потоком, и их требовалось как-то организовывать. Поэтому Иоанн и поставил Леонардо главой возрожденного Пандедактириона. Того самого, что в 1453 году упразднил Фатих Завоеватель. И даже кое-кого из последних сотрудников подтянул. Для солидности.
Здания ВУЗа не было. Преподавателей в нем не имелось. Студентов не наблюдалось. А ректор уже был. И гордился своим положением безмерно. Ведь учебное заведение задумывалось Иоанном естественнонаучного толка. Что в полной мере отвечало его интересам и душевным устремлениям.
— … вопрос медицины меня тревожит больше всего, — заметил король, когда они вновь подняли эту тему. — Нынешняя темнота наших врачевателей в том, что они там лечат, меня пугает.
— Разве все так плохо?
— Все ужасно! На днях мне один идиот заявил, что мозг — это железа для выработки соплей[4]. Ты представляешь? Это что же получается? Обычный насморк это ни что иное, как утечка мозгов?
— Ну… — улыбнулся Леонардо, прекрасно знавший о том, что при нанесении серьезных травм голове, человек умирает. Даже просто сильное сотрясение тяжело переносит. А потому вряд ли железа в голове предназначалась для выработки соплей.
— С этим нужно что-то определенно делать. И черт с ним с мозгом. Даже анатомию и ту толком не ведают. У меня, допустим, болит что-то вот там. А что там? Что там может болеть? А операции как проводят? Ужас! Ни разрезать, ни зашить толком не умеют. Любой палач даст форы любому, самому именитому врачу.
— У него обширная практика, — развел руками Ленонардо, вроде как виновато.
— Ну так и давайте обеспечим нашим врачам практику. Как ты смотришь на то, чтобы построить для нашего Пандидактериона анатомический театр[5].
— Что прости?
— Анатомический театр. Я знаю, что в Европе кое-где уже начались вскрытия людей. Убежден, что это правильно. Без этих вскрытий не получиться понять внутреннего устройства человека и процессов, в нем происходящих. А потому и лечить добрым образом не удастся. Вот я и думаю, что надобно построить специальное здание, в котором по кругу пустить ярусы сидений. А в центре поставить стол, где вскрытия и производить, комментируя окружающим свои действия.
— Это очень интересно и нужно, — охотно согласился да Винчи. — Но церковь. Боюсь, что она будет решительно против.
— С Патриархом я уже говорил. Он согласен. За обещание пойти в Крестовый поход и вернуть христианам Константинополь он мне разрешит все, что угодно.
— Это отрадно слышать, — улыбнулся да Винчи. — Но откуда мы будем брать трупы? По ночам выкапывать на кладбищах? Я слышал, что в моих родных землях врачи именно так и поступают.
— У бедных семей плохо с деньгами. Поэтому я стану выделять средства на выкуп у них трупов родственников. Уверен, что желающих обменять труп на деньги хватит для этого театра. Там же, полагаю, нужно учить правильно рассекать плоть и зашивать ее. Чтобы тот, кто умеет, проводил операцию, а ученики наблюдали за ней. Как думаешь, подтянутся в Москву энтузиасты медицины, если узнают об анатомическом театре?
— Кто знает? — пожал плечами Леонардо. — Я не хочу ничего обещать. Но, полагаю, что это их может заинтересовать. Да и для пользы дела — крайне полезное заведение.