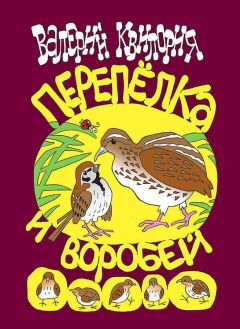Настроение окончательно только испортил. Тфу на них, три раза. Так сам себя накрутил, даже поблагодарить господ правителей земли Русской, за выказанное благоволение и оказанное доверие, забыл.
Благо, поговорить поговорили, но благоразумно, до окончания летних отпусков, ничего менять не стали. Что и мне на руку. У меня на лето огромные планы были, и среди них суета вокруг обиженных переменами вельмож не значилась. Но сама возможность без оглядки на всяких разных гм... да... разных членов Госсовета и прочих доброжелателей затеять любое новое акционерное общество, честно говоря, душу грела.
С прискорбием вынужден сообщить, что эти политические игрища, совершаемые вокруг моей скромной персоны, восприняты были скорее, как некий фон. Досадные недоразумения, отвлекающие от той веселой суеты и безобразий, кои всегда сопровождают подготовку большой семьи к переезду.
Всюду в доме стояли какие-то коробки и корзинки, много раз переставляемые, открываемые, содержимое их непрестанно менялось и путалось. Вещи, приготовленные Герочке для его путешествия на юг, терялись или смешивались с предназначенными Сашеньке. Служанки сбивались с ног, в поисках вдруг пропавших, но совершенно необходимых прямо здесь и сейчас принадлежностей.
Решительно все население особняка, вплоть до истопника и кучера, участвовало в этом бедламе. Один лишь старый Апанас, словно нерушимый айсберг, оказывался неизменно спокойным и непоколебимым. Платья, письменные и гигиенические принадлежности, револьверная пара с запасом патронов, новейшие карты, кейс с тысячей рублей золотом и выписанная мною самому себе подорожная. Представленный мне опытным слугой список собранного в сравнительно небольшом чемодане, тоже был не особенно велик. Так что я за комфорт в пути мог не беспокоиться. Однако же, это, внутреннее, спокойствие, не исключало меня из всеобщего преддорожного сумасшествия.
И они же, эти подобные пожару или еще какому-нибудь наводнению, сборы разрешили давным-давно мучавший меня вопрос: приглашать ли на встречу с Вениамином Асташевым Наденьку. У нас по дому, pardon за интимные подробности, панталоны в неожиданных местах валялись. Принимать в этаком, растрепанном, состоянии жилища даже давних друзей, было решительно невозможно. И, как следствие, оторвать от жизненно важных адски трудных процессов выбора нарядов, одни из которых будут сопровождать хозяйку в Тверскую губернию, а другие останутся прозябать во тьме столичных гардеробов, оказалось просто смертельно опасно.
Асташев предложил встретиться на, так сказать, нейтральной территории. И в этом определенно был смысл. Пригласи Вениамина Ивановича в Эрмитаж, в свой кабинет, разговор определенно скатится в нечто официальное. К себе, в дом на набережной Фонтанки, в этот панталонский вертеп и гнездовище дамских шляпок – решительно невозможно. А в столичный особняк Асташевых не хотел ехать уже я сам. Отставной гусар непременно принялся бы развлекать гостя, и серьезный разговор в один миг обратился бы болью в животе от непрерывного смеха. Веня был совершенно неиссякаем на веселые истории, и часы напролет мог фонтанировать анекдотами.
Выбор компаньона тоже вполне устроил. Ресторация Палкина на пересечении Невского и Владимирского проспектов. Так называемый, ресторан «Новопалкин». Был еще и «Старопалкин», что располагался куда дальше от центра столицы, но открылся, чуть ли не на полвека раньше.
Перекресток, где прошлой осенью внук основателя ресторанного бизнеса, Константин Павлович Палкин, открыл свое знаменитое на весь Санкт-Петербург предприятие общепита, был по-своему примечательным местом. Среди коренных жителей столицы место это обзывалось не иначе чем «Вшивой биржей». Еще в тридцатых годах там располагались многочисленные цирюльни, где задешево приводили в порядок волосы уличного люда. Волосы падали на землю, а жившие в них мелкие паразиты, расползались по сторонам. После, рассадник болезней был ликвидирован, перекресток застроили доходными домами и средней руки гостиницами.
В строении под номером сорок семь по Невскому, и – один по Владимировскому, кроме палкинской ресторации, еще помещалась типография герра Траншеля. В ней, помимо всего прочего, печатали номера еженедельника «Гражданин», издававшегося небезызвестным князем Вово. Естественно, не на свои средства – откуда у этого «прилипалы» и записного острослова деньги? Однако суммы были невелики, а Мещерский обладал какой-то мистической способностью в выпрашивании подачек у императора Николая. Так что, в некотором роде, «Гражданин» был государственным изданием под прикрытием.
Ах, да. С февраля текущего года, издание оплачивалось с особых счетов канцелярии Совета министров Российской Империи. Соответственно, первые типографские оттиски, до того как увидеть свет, ложились мне на стол. Князь Мещерский, хоть и был редкостным... человеком спорных моральных достоинств, однако же, и польза от его затей имелась не малая.
Кстати говоря, с сочельника семьдесят третьего до весны семьдесят четвертого, в «Гражданине» был раздел «Дневник писателя», редактировавшийся господином Достоевским. Я лично восторгов в отношении литературных достоинств творений Федора Михайловича не разделял, однако вполне осознавал, что Ее Величество История может и не вместить на скрижали какого-то невзрачного чиновника Лерхе, но непременно поместит туда сумрачный гений писателя.
Впрочем, тогда Никса был еще жив, и сам принимал решение, допустить ли бывшего ссыльного, пропойцу и прописного игрока к обширной читательской аудитории еженедельника. Я так понимаю, что решающей стала справка из канцелярии столичного обер-полицмейстера, в которой утверждалось, что «прибывший из-за границы урожденный дворянин, лишенный всех прав и дворянского звания поднадзорный мещанин Достоевский Федор Михайлович ни в каких порочных деяниях замечен не был, карточной или иной игре на деньги более не склонен». Да и Вово, явивший январские оттиски с программной статьей писателя, брался за «диссидентом» присматривать. «Буду и я говорить сам с собою в форме этого дневника, - писал Достоевский. – Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься». Поражался и задумывался прошедший ссылку, каторгу и службу в солдатах редактор политически верно, и, быть может и поныне служил бы славному делу популяризации реформ, но в апреле семьдесят четвертого решил оставить пост и заняться исключительно литературной деятельностью.
Это я к тому, что открытие нового ресторана Федор Михайлович уже не застал, и встретить его в большой зале, с бассейном, в котором вяло шевелили хвостами живые осетры, нечего было и надеяться. А вот Михаил Евграфович Салтыков, возглавлявший раздел беллетристики в некрасовском журнале «Отечественные записки», если верить словам Менделеева, частенько захаживал к Палкину.
Признаться, я вовсе не горел желанием встречаться с Салтыковым, изредка подписывающим свои вирши псевдонимом Николай Щедрин. Злой он был. Злой, язвительный и весьма бойкий на язык. Его юмористические новеллы неизменно высмеивали глупых и корыстных чиновников, никогда не давая ни рецептов исправления сложившейся в стране ситуации, ни сравнений с действительно добросовестными администраторами. Невольно создавалось впечатление, будто бы все гражданское управление империи – одно сплошное недоразумение. Так что я господина Салтыкова не любил. И не уважал.
Каково же было мое удивление, когда однажды вдруг выяснилось, что я едва ли не единственный столь негативно относящийся к творчеству Салтыкова. Большинство же, включая чиновников высоких рангов, полагало истории Щедрина не более чем остроумной шуткой. Вроде анекдота, обижаться или сердиться на автора которого полнейшая глупость и вздор. Рассказывали, что якобы Михаил Евграфович водил дружбу со столичным градоначальником Федором Федоровичем Треповым, которого совершенно не смущали выходящие из под пера писателя грязные пасквили.
До меня доносились слухи, что будто бы даже именно Салтыков заступился за Константина Палкина, когда у того вышел конфликт с Треповым по поводу выбивающейся из стандарта вывески нового ресторана. Однако была и другая версия о том, как это, действительно имевшее место быть, недоразумение было разрешено к всеобщему удовлетворению.