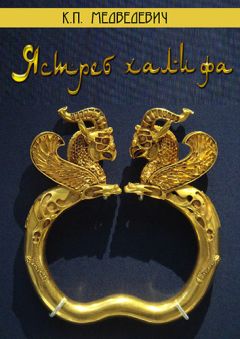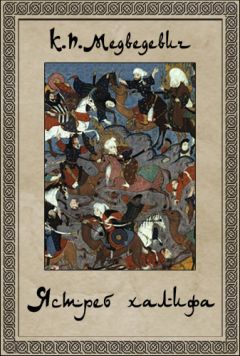Ознакомительная версия.
— Смерть Муизза ад-Даула освободила принцессу Тихану и ее брата. Но смерть Аммара ибн Амира или Айши бинт аль-Ханса не принесет Тарегу ничего, кроме бедствий. Аммар — последний из Аббасидов. Когда он умрет, династия сменится, и на трон сядет один из Умейя. Вы представляете, что сделает с Тарегом умейядский халиф?
Джунайд обвел взглядом узкие лица со злобно сощурившимися кошачьими глазами. В конце концов, Ньярве мрачно проговорил:
— А что может быть хуже? Джунайд-сама, вы слышали, как он к нему обращается? «Тарик»! Каково, а? Да если бы кто-то позволил себе звать меня не тем именем, которым я разрешил, да еще бы припечатал какой-то дрянной кличкой, — я бы его изрубил в капусту! «Тарик» — немыслимо!
— Увы, Ньярве, но князя Тарега Полдореа может ждать гораздо более печальная участь, — мрачно ответил аураннцу Джунайд. — Умейядский халиф — к примеру, один из уцелевших братьев этой самой Айши — вполне может посадить его в клетку в Аль-Хайре, дворцовом зверинце. И выпускать только когда нужно будет одержать очередную победу на поле боя. Вы забыли, что Сахль аль-Аттаби именно так поступал с Амайа-хима?
— Нет, не забыли, — прищурился Ньярве. — И уж что правда, то правда: вы, ашшариты, имеете большой опыт по части сажания нас в клетки.
— Ньярве! — гаркнула Майеса. — Джунайд-сама тут не причем! Сейчас же извинись!
Аураннец сморщился, словно откусил от лимона, однако поклонился спокойно ожидавшему извинений Джунайду. Тот вежливо кивнул в ответ.
— Но халиф все равно будет умейядский, — подала голос Амоэ. — Кого еще родит эта Айша, как не Умейя? Да еще и всех родственников своих, которых Тарег-сама не успел отправить на тот свет, притащит в столицу. Князю и так и так придется служить Умейядам.
— Как бы то ни было, это будущее благоприятнее для Тарега, — покачал головой Джунайд. — Но я бы сказал, что оно с каждым днем становится все более маловероятным — и это печально.
— За что его так… наказывают? — вдруг горестно спросила Майеса и погладила бледную холодную щеку лежавшего у ее колен нерегиля. — Что он такого сделал?
— Это дело между ним и… тем царем, который выше халифа, — печально ответил Джунайд и покачал головой.
Он не стал объяснять своим собеседникам, что Тарега не наказывают — Тарег наказывает себя сам. И это хорошо, думалось Джунайду, ибо это доказывало, что в самийа живет не совсем пропащая душа. Да, он, Кассим аль-Джунайд, был обязан нерегилю жизнью, но… По правде говоря, после всех событий в Куртубе, аль-Мерайя и Исбилье ашшариту казалось, что Тарегу самое место в аль-Хайре, на цепи и за крепкой стальной решеткой. Суфий не знал, куда в аду определяют тех, кто убивал невинных во имя Всевышнего, но очень надеялся, что нерегиль вскоре составит там компанию всем сумасшедшим фанатикам и безумцам, расчищавшим землю от людей во имя сияния Имени. Обнаружив обессилевшее чудовище в башне Калатаньязора, Джунайд сначала не поверил своим глазам. Нерегиля мучили кошмары и угрызения совести — но это никак не объясняло, как он сумел пройти в комнату, защищенную печатью Али. Всевышний в справедливости своей забрал у него силу — но и это никак не объясняло предельных мучений, в которых корчилась душа Тарега.
Хамид, послушав разговор своего шейха с сумеречником, встал и вышел, и лишь недавно нашел в себе силы снова прийти сюда. Он тоже никак не мог поверить — а самое главное, простить Всевышнему того, что увидел.
А по всему судя, получалось так, что нерегиль, язычник и убийца, плутал по темным лабиринтам состояния, именуемого суфиями кабд, стеснение. Душа в нем воистину сжималась так, что домом ее становилось игольное ушко, со всех сторон подступали тьма отчаяния и одиночество, — потому что в ночном мраке кабда душе открывалась ее предельная мерзость и запустение. Тяжелейшее зрелище уродства и скверны собственного «я» заставляло испытывающего кабд человека бежать общества себе подобных и замирать в мучительном бездействии, в котором страдающее существо не могло пожелать себе даже гибели — ибо у него не оставалось силы желать. Оно медленно умирало, не имея сил умереть — и избавиться от гнетущего и преследующего, как запах разложения, зрелища собственного гноища и обнажившегося позора. Джунайд считал, что кабд — более высокое по сравнению с баст, экстазом, мистическое состояние. "Когда Он давит на меня страхом, Он заставляет меня исчезнуть для меня", писал он в наставлениях ученикам. Только прошедший через кабд способен на совершенное самоуничтожение, фана, — а без этой стоянки нет мистического пути. Тарег прошел под печатью, потому что умер для себя в мучениях ночи духа, и продолжал гореть заживо в ее черном пламени. "Баст — площадка для детских игр, кабд — поле, на котором умирают мужчины" — многие суфии отдали бы все пальцы правой руки, чтобы удостоиться такого Присутствия и такого прикосновения Длани — а рука Всевышнего сейчас тяжело лежала на загривке мятежного сумеречника.
Однако Джунайд был более чем уверен, что когда Длань отнимется от жесткой шеи нерегиля и в глаза тому вспыхнет полуночное солнце созерцания, Тарег отвернется от света — ибо его страстная, яростная душа не знала смирения. И через некоторое время ему снова предстоит провалиться в черный колодец ночи и, с криком упав в собственную пропасть, плутать по мрачным коридорам памяти и разума в поисках ответа на вопрос — зачем я здесь и почему со мной это происходит. Когда это кончится для бунтующего существа? У Джунайда не было ответа. Более того, суфий был уверен, что, расскажи он нерегилю о ночи духа, тот бы просто рассмеялся ему в лицо. Голова сумеречника не вмещала в себя учения суфиев. Тарег страдал, как животное, — не осознавая причины своих мучений и не зная, как от них избавиться.
Поэтому Джунайд сейчас просто ждал, когда нерегиль откроет глаза и его первый поединок с Удерживающим завершится.
Асет и Сулайман прыгали на одной ножке по разноцветным плиткам пола в зале приемов. Смех и вскрики детей странно отдавались в давно покинутых стенах.
Ночь прошла спокойно — хотя Айша то и дело вскидывалась, впиваясь взглядом в сумрак зала, сгущавшийся сразу за кругами света от плошек с горящим маслом. Ей все казалось, что бесконечно чередующиеся зелено-сине-черные листочки на изразцовом поясе стен танцуют, а меж ними проглядывают крохотные красные глазки. Это все от пережитых в пути страхов, повторяла Айша и смежала веки, сотворяя дуа — она просила у Всевышнего спокойных снов и безмятежной ночи. Видимо, ее молитвы дошли до ушей Милостивого, Прощающего — сгрудившиеся у северной стены зала женщины и дети выспались и даже заспались. А выйдя на яркое солнце позднего утра во двор, обнаружили, что трое рабов-зинджей, спавших на пороге снаружи, исчезли. Ковер и одеяла лежали на месте, а вот черных невольников нигде не было видно.
Что ж, их трудно было винить — о Красном замке рассказывали много страшного: верно, рабы перепугались и сбежали.
У очагов пугали друг друга байками о заблудившихся караванах: "а глупый купец сказал: "Во имя Всевышнего, мы здесь заночуем!", и они встали на ночлег во дворе замка. А ночью из фонтанов забили струи воды, и сад оделся зеленью и огоньками ламп, и во дворце послышалась приятная музыка и смех. И к купцу и его спутникам вышли прекрасные девушки в прозрачных чадрах и ожерельях из золотых динаров, и стали манить их за собой в комнаты. И тогда купец воскликнул: "Во имя Всевышнего, я видел столько красивых женщин, но ни одна не сравнится с Нун, которая ждет меня в Фустате!" И тут все увидели, что ноги у женщин верблюжьи, тело как у пса, а голова кошачья".
Посмеявшись на глупыми зинджами — их же переловит шурта и выпорет, как беглых, лучше бы уж остались, женщины и мальчики решили позавтракать на солнце в саду: на широкой мощеной плиткой площадке вокруг чаши огромного высохшего пруда можно было устроиться, не боясь ни сорняков, ни колючек. Расстелив в тени садовой стены достархан, они начали делить оливки, соленый козий сыр, пресные лепешки и финики. Подумав, аль-Ханса кивнула Айше, и та принесла от хурджинов мех с вином. Налили в большую медную чашу-каса и дали выпить всем — и мальчикам, и восьмилетней Асет, и отнекивающейся толстой Фатиме. Впервые за эти долгие две недели погоня не висела у них за плечами — никому и в голову бы не пришло искать их в проклятом замке, о котором ходили леденящие душу слухи.
— Я же говорила, матушка, — нам следует бояться ибн Хальдуна, а не каких-то давно преставившихся Сегри, — засмеялась Айша и подмигнула веселящимся сотрапезникам над краем чаши.
Солнце карабкалось все выше и вскоре длинный заржавленный шпиль над главной башней превратился в черную длинную полоску на выцветшем, белесом от зноя небе. В саду оглушительно верещали цикады. Потягиваясь и зевая, захмелевшие гости Красного замка задремали прямо на подушках вокруг уставленной остатками еды скатерти.
Ознакомительная версия.