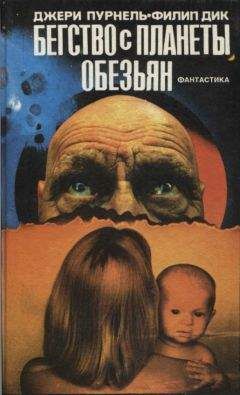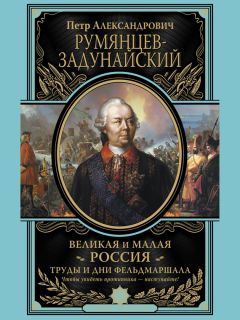– Вина у вас, положим, не передо мною, а перед ними, – кивнул в сторону толпы Константин. – А про князей ты тут неверно сказал. Я-то таковым являюсь, а вот вы… В чем у вас от татей шатучих отличие – не скажешь?
Ответом было молчание.
– Вот и сам разницы этой что-то не вижу, – сокрушенно вздохнул рязанский князь.
– А ты другое в виду поимей, – подал голос Мстислав Глебович. – Мы ведь подсобить тебе пришли, с христианскими намерениями – обратить в святую веру здешний народишко, который закоснел уже в поганом язычестве. Нашумели, конечно, малость, но кто же виноват, что они сразу за косы да топоры хватаются. Поначалу-то думали всех миром в церкву загнать да окрестить заново, ан не так все вышло.
– Они идолищам поганым в лесу молятся. Я знаю, где это. Даже показать могу, – пискнул осмелевший попик.
– А с тобой, человек божий, у нас отдельный разговор пойдет, – достаточно спокойно, даже почти ласково пообещал Константин.
Но была в той ласковости такая невысказанная угроза, что уж лучше бы князь как-нибудь прикрикнул – все пар бы спустил. Нет, в себе удержал, а это намного хуже. Попик мигом затаился и сызнова юркнул за княжеские спины.
– Он все верно сказал, – подтвердил Мстислав Глебович. – Ты вон Владимир с Ростовом брал, а у себя под носом язычников не приметил. Вот мы и…
– А тебе, княже, что за печаль была до язычников моих? Ты кто – митрополит или епископ черниговский? – перебил Константин и, ткнув пальцем в дружинника по имени Первак, требовательно спросил: – В чем вина этого князя?
Дружинник чуточку помедлил, припоминая. Его, как и еще троих, к князьям приставили до начала опроса видоков, чтобы запомнить, в чем именно вина каждого. Перваку, можно сказать, повезло. На Мстиславе Глебовиче меньше всего грехов оказалось, и теперь вой, старательно морща лоб, припоминал их все.
– Воя Брутю самолично на копье вздел. Это в Пеньках было. Все жечь повелел. Баб хлестал нещадно, а старухе Матрене так руку перебил, что ни поднять, ни пошевелить ею ныне не в силе. Здесь, в Залесье, девке Бажене и вовсе глаз выбил. Кузница Точилу срубил.
– Да тот кузнец самым главным у них был, кто Велесу да Сварогу жертвы приносил, – выкрикнул зло пленник. – Ты спроси-ка, спроси сам у вдовицы его, пусть она тебе как на духу ответит.
Константин повернул голову к глухо ворчащей толпе.
– Где вдовица? – спросил негромко.
Пауза длилась не меньше минуты. Затем, легко раздвинув двух набычившихся мужиков, угрюмо стоящих в первом ряду, на пустое место вышла крупная женщина лет сорока. Отвесив низкий поклон Константину, она повернулась к Мстиславу Глебовичу и с вызовом произнесла:
– Он хоть и приносил Сварогу жертвы, только никого никогда не забижал.
– Она и сама, поди, язычница! – радуясь тому, что все его слова полностью подтвердились, закричал Мстислав Глебович.
– Христианка я, – женщина сняла с шеи сиротливо болтавшийся на веревочке маленький деревянный крестик, сжала его в кулаке, подошла поближе к пленному и с силой швырнула крест ему в лицо.
Повернувшись к Константину, она как-то жалко улыбнулась и беспомощно развела руками.
– Была христианкой. Ныне же не желаю быть одной веры с этим кровопивцем. – Она, не глядя, кивнула на Мстислава. – Хотела детей окрестить, да муж не велел. Сказывал, в возраст войдут – сами пускай выбирают. Негоже это, когда мы за младенца решать станем. Я уж его и упрашивала, и молила – уперся и ни в какую. Ныне нет в живых кормильца мово, так я им и сама креститься не велю.
– А я говорил, я говорил, – вновь пискнул связанный попик, осторожно высовываясь из-за спин пленных князей и тут же ныряя с опаской назад.
– А ты и вовсе молчи, – повернулась к нему женщина. – Из-за тебя все, окаянный. Не ведаю уже, какому богу ты служишь, только знаю, что злой он, как наш Чернобог, и негоже такому поклоны бить да ради него от наших чистых и светлых отрекаться.
– Богохульница! В аду сгоришь! – вновь пискнул попик.
– Вот-вот. Целыми днями он нас только этим и пугал, – усмехнулась женщина. – А когда мужики его в круг взяли, знаешь, княже, что он нам заявил? Готов он, дескать, за веру свою мученический венец приять от нас. А за то ему на небесах вечное блаженство его бог подарит. Мой-то Точила возьми да спроси: «А нам за это что от твоего бога будет?» А тот в ответ: «Адские муки. Вечно вам в котлах кипящих вариться». Ишь ты какой. Точила и говорит: «Стало быть, ты, поганец, на наших муках хочешь вечное блаженство себе заработать. Мы-то котлов твоих не боимся, вот только противно нам знать будет, что такая нечисть, как ты, блаженствовать станет». Вот и выкинули его из селища. А он воротился, да не один – с силой ратной. А теперь хоть казни меня, княже, хоть милуй, только крест его я больше на себя не надену. – Женщина вновь склонилась перед Константином в низком поклоне и, выпрямившись, гордо вскинула голову, ожидая своей участи.
Князь молча встал, расстегнул полушубок, ворот рубахи и медленно высвободил изящный золотой крестик. Показывая его жене кузнеца, он произнес вполголоса:
– Разные люди Христу поклоняются, – и добавил с укоризной: – И свой крест подбери. Не хочешь носить – принуждать не буду. Верить силком никого не заставишь. Кому пожелаешь – тому и молись. Но и так тоже нельзя. Ты же, крест свой бросив, на одну доску с этим попом встала, себя унизив.
Женщина растерянно взглянула на князя. Иных слов она ждала в ответ. В запале своем даже смерть готова была принять. Всем жизнь тусклой кажется в первые минуты после утери близкого человека. Вот и ей все равно было, что с ней дальше сделают. А князь вон как все повернул. И попрекнул-то деликатно, можно сказать, ласково, и верить во что хочешь разрешил, а главное – ее, кузнечиху простую, да еще и язычницей сызнова ставшую, выше попа поставил. И тут же стыд пришел – а ведь и впрямь погорячилась. Крест-то тут при чем?
Она повернулась, подошла к сиротливо лежащему на снегу кресту, нагнулась, чтобы поднять его, и… неловко взмахнув руками, рухнула навзничь. Это Мстислав Глебович, изловчась, прямо в лицо ей своим сапогом угодил, отомстив за унижение.
Толпа поначалу даже не поняла, что случилось. Не до того ей было. Добрая половина слова князя обсуждала про то, что он никого к вере не принуждает и каждый из них, выходит, теперь уже не таясь может в кумирню к своим привычным богам прийти, дабы требы им принесть.
Лишь когда некоторые из передних охнули возмущенно, все сызнова на кузнечиху внимание обратили, и опять людям еще непонятно было: сидит баба, одной рукой о снег опершись, а другой кровь с разбитых губ вытирает. Что случилось, откуда кровь – ничего не ясно.
Пока те сельчане, которые в доподлинности видели все произошедшее, всем прочим о том рассказали, еще чуток времени прошло. А когда уж толпа взревела – поздно было.