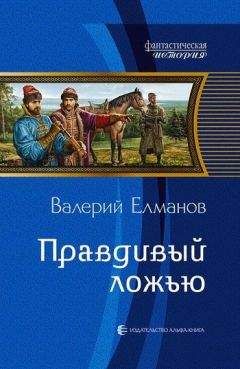Немудрено, что кое-кого из серебреников пришлось настойчиво уговаривать, и поддались они, лишь когда я пустил в ход тяжелую артиллерию – имя царевича. Перед нынешним авторитетом и популярностью престолоблюстителя ювелиры стушевались.
В Постельный приказ я вообще не совался – там вовсю орудовала царица, которая в кои-то веки одобрила мои решения относительно такой «зачистки» царских запасов и теперь подгребала все, что только видела, причем настолько рьяно, что я порекомендовал Федору как-то урезонить мамашу – наглеть тоже ни к чему.
К примеру, из домотканых местных материй взять не больше одной четверти от имеющегося, в конце концов такие действительно отыщутся в Костроме. Завозных – английские, фряжские, немецкие и прочие сукна – их не более половины, а касаемо особо дорогих – шелка, парча, бархат, аксамит и прочие – и вовсе ограничиться третьей частью.
– Никак князь все для пресветлого государя Димитрия Иоанновича радеет, – зло прошипела она, но послушалась.
А у меня на очереди были казначеи, которыми я собрался заняться сразу поутру.
Их в Москве оказался всего один – второй укатил на поклон к Дмитрию. Но зато это был тот, который уже знал меня в лицо. Понятно, что перед повелением Годунова любой не дернется, но куда лучше, чтоб вдобавок имелось еще и личное знакомство.
К нему мы с Федором отправились самолично, благо что он жил неподалеку от моего подворья – метров сто, не больше.
Польщенный визитом столь дорогих гостей дьяк Меньшой-Булгаков расстарался не на шутку – стол ломился от обилия закусок и кувшинов с медком. А уж когда мы пару раз назвали его Семеновичем, тут он и вовсе расплылся в славословиях.
Я тоже не отставал в любезностях от хозяина дома, да и Федор разок – особо баловать нельзя, всему должна быть мера – провозгласил здравицу в его честь.
Правда, едва речь зашла о деле, как дьяк тут же протрезвел, хотя и не до конца, заявив, что без государева повеления он самовольно выдать требуемое нам из казнохранилища не имеет права.
Даже царевичу.
– И правильно, – подхватил я. – Вот, Федор Борисович, какие верные престолу слуги на Руси ныне живут, примечай. Мыслится, что таковских в дьяках держать негоже – пора в думные[79] его переводить.
– Замолвлю словцо пред государем, непременно замолвлю, – включился в игру Федор.
– Что же до денег, кои нам потребны, то оное разрешение указано в грамотке Дмитрия Иоанновича, коя ранее во всеуслышание была зачитана перед всем людом на Пожаре. А коль запамятовал, то вот она, прихвачена с собой. – И я выложил на стол свиток.
– А сколь ныне в казне? – полюбопытствовал царевич.
– Четыреста семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят три рублика, – отчеканил дьяк, ни секунды не колеблясь. – Да к им полтина и три алтына, – добавил он спустя несколько секунд.
Мы с Федором переглянулись. Получалось не ахти. Раз в казне меньше миллиона, то согласно той же государевой грамотке Годуновым причиталось лишь сто тысяч. И я еще раз порадовался собственной предусмотрительности относительно украшений царевны и матери-царицы, а также «кухонной утвари».
Но ставить в известность дьяка о том, что помимо монет мы собираемся прихватить и еще кое-что, не стал – рано. Лучше это сделать на месте, внутри сокровищницы, чтоб он уже особо не дергался, коль Булгаков такой щепетильный.
Меня так и подмывало напомнить ему, что он вообще-то… покойник.
Да-да, я сам читал в одном из «прелестных» писем Дмитрия, как царь Борис Федорович, узнав, что Меньшой-Булгаков вместе с дьяком приказа Большого Дворца Смирновым-Васильевым пили дома за здоровье Дмитрия, повелел умертвить обоих.
Глядишь, пыл и служебное рвение от такого известия немного и убавится, но, поразмыслив, не стал ничего говорить – и так справимся.
Спустя час мы уже находились близ Казенной палаты, представлявшей собой мрачное здание, стоящей наособицу от остальных приказов. Оно и понятно. Чай, министерство финансов, не шутка.
Признаться, стало как-то не по себе, когда я вошел внутрь и воочию увидел то великолепие, которое хранилось тут в таком изобилии, что и места свободного не имелось. Серебро так и вовсе было навалено в здоровенных ларях, пристроенных к стенам, и я еще раз похвалил себя за предусмотрительность – тару мы привезли с собой.
Загружались мои ратники под завязку, проворно сменяя друг друга, тем более что их нелегкий труд был мною сразу организован по конвейерному методу.
Двое быстренько взвешивали пустой сундук, после чего поспешно тащили его к ларям с серебром, где вторая пара лопатами сноровисто загружала в него монеты.
Едва сундук, для крепости окованный по углам толстенными железными полосами, наполнялся, как еще одна пара – весовые – тут же хватала его и тащила к большим весам. Там они под присмотром Меньшого-Булгакова уравнивали вес до двухсот сорока девяти фунтов, добавляя или убавляя черпачок серебряных монет.
Такая некруглая цифра была выбрана мною неслучайно, поскольку я решил загружать в каждый сундук ровно по полторы тысячи рублей. Но если отвешивать двести пятьдесят фунтов, выйдет несколько больше, а так получалось почти полторы, даже с легкой недостачей в виде полтины и одной деньги-московки.
– То тебе с каждого сундука за труды и радение… на семечки, – расщедрился я, решив не мелочиться – уж очень скорбный вид имел Меньшой-Булгаков, наблюдая за стремительным процессом опустошения моими бравыми молодцами объемистых ларей.
– На что? – проблеял дьяк.
Ах, ну да, семечек еще нет. Хотя погоди-ка, а тыквенные? Или они тут называются иначе? Но на всякий случай поправился:
– На сласти, – гадая, а выдержит ли его сердце дальнейшее разорение.
Меж тем очередной доверху заполненный сундук быстро захлопывался, запирался и опечатывался Еловиком Яхонтовым, которому я временно поручил заведование печатью.
Тут же еще одна пара специально подобранных мною самых здоровенных ратников выносила его на улицу, где уже ждали подводы, которые по мере загрузки одна за другой катили к Запасному дворцу, под надежную охрану полка, проживавшего в нем.
С тридцатью сундуками мы управились буквально за три часа – дьяк только глаза таращил, после чего настала очередь золота.
Вообще-то цена его, как я предусмотрительно выяснил, была разная, причем все зависело от… цвета.
Например, огненные угорские цехины и рыжие фряжские флорины ценились несколько дороже, чем высокопробные, но бледно-желтого цвета польские дукаты, а также английские соверены и кроны. Испанские реалы и французские экю стояли примерно посредине.
Но не возиться же, отбирая монеты пожелтее. Лопаты в руки, и посыпались в пустые сундуки без разбору тяжелые португальские с крестом, английские корабленники и новенькие юнайты Якова I, генридоры и экю, дукаты и цехины, пиастры и песо…