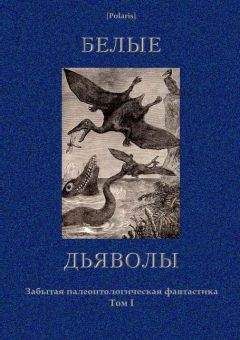Я понял. Diablerie уже здесь.
Акт третий. Кульминация.
Вскоре стало ясно, что мое присутствие совершенно излишне. Командовать не пришлось. Реестровцы привычно построились в три шеренги, готовясь к отпору. Ополченцы бросились к раненым, снимая с плеч самодельные ноши. Повезло — и нам, и этим несчастным. Отступая, Богун все же не забыл о лазарете. Забрали почти всех, но к нескольким десяткам оставленных за последние полчаса добавились те, кто попал под обстрел. А пушки продолжали греметь, и каждую минуту смельчаки, каким-то чудом не потерявшие голову в этом аду, укладывали на окровавленную траву все новых и новых.
Брата Азиния нигде не было. Я уже было обрадовался, решив, что попик впервые за наше знакомство проявил столь не свойственное ему благоразумие. Как вдруг…
— Монсеньор! Ради Господа, монсеньор!
Хорошо, что шумно! Хорошо, что реестровцы не понимают по-итальянски!
На этот раз на брате Азинии была фиолетовая сутана вкупе с большим наперсным крестом. Я только головой покачал. Самое время!
— Монсеньор! Сюда! Сюда!
Вначале мне не понравился его голос. Затем — лицо. Затем…
— Сюда! Вот! Вот! Что мне делать, монсеньор?
…Сьер Гарсиласио де ла Риверо, доктор римского права и нераскаявшийся еретик, лежал на залитых кровью ношах. Знакомые тонкие губы посинели, рука, все еще теплая, упала на траву.
— Я не успел! Не успел исповедать! Что же делать, монсеньор? Без исповеди, без причастия!..
Я наклонился, прикоснулся к артерии на шее, затем — уже для верности — к запястью.
«…А посему отпустить упомянутого сьера Гарсиласио де ла Риверо на волю и предать властям светским, дабы те наказали его по заслугам, однако же по возможности милосердно и без пролития крови…»
Без крови не вышло. Пуля попала в грудь, чуть ниже сердца.
— Надо уходить, брат Азиний.
Мальчишка не бежал вместе с остальными. Не бросил мушкет, не испугался, не спраздновал труса…
— Нет! — Попик шморгнул носом, и я с изумлением заметил на его лице слезы. — Так нельзя! Я… Я прочитаю отходную. Нет! Я помолюсь за его жизнь! Может, Господь меня послушает?
Я оглянулся. Сквозь белые рубахи уже сверкала сталь. Diablerie близко.
— Нет. Надо уходить!
Брат Азиний помотал головой, упал на колени, ткнулся прыщавым носом в молитвенник.
Я отвернулся. Нечего жалеть этого еретика! Ему еще повезло: пуля в грудь — не костер из мокрой соломы. Но все же, все же…
…Упокой, Господи, душу раба твоего Гарсиласио, и прости ему грехи, вольные и невольные…
* * *
На этот раз мы опоздали.
Ненадолго, всего на несколько минут. Редут был уже близко, когда во всю глотку рявкнули мушкеты, что-то звонко ударило по шлему, отдалось болью, желтой волной разлилось по глазам.
— Ляхи! Ляхи! Пан Гуаира ранен! Пали! Пали! Подхватили под руки, сорвали шлем, что-то мокрое прикоснулось к губам…
— Пали! Пали! На прорыв! Робы грязь, хлопцы! Все смешалось. Земля, небо, окровавленные белые рубахи, красные лица под немецкими касками, сабельный блеск, черный пороховой дым.
— Робы гря-а-азь!
Живые исчезли. Пропали, сгинули, провалились сквозь землю. Остались только мертвые; Странно, я только сейчас увидел их…
…Хлопец в серой свитке. Молодой, совсем мальчишка. Кровь на лице, через всю грудь — глубокая рваная рана.
…Старик в нелепой соломенной шляпе. В спине — длинная стрела, рука все еще сжимает кобыз. Струны порваны, уцелела лишь нижняя — «до».
…Сразу трое, один на другом. У того, кто сверху, вместо головы — кровавый обрубок.
…А вот и голова. Она высоко, ее водрузили на шест. Темная кровь заливает бороду, мертвый рот недобро скалится, но я все же узнаю того, кто каждое утро благословлял мятежный Вавилон.
Мир твоей душе, Иосааф, митрополит Коринфский! …Женщина. Копье проткнуло ее насквозь, застряло, его даже не стали вынимать.
…Мертвые, мертвые…
— Синьор дю Бартас! Синьор дю Бартас! Скорее, монсеньор… Синьор Гуаира!..
Азиний? Шевалье? Значит, мы уже на редуте? Тогда почему я вижу только мертвых? Почему они всюду, не отпускают, толпятся, тянут костлявые руки?
— Mort Dieu! Ноши! Бистро! Бистро! Гуаира! Вы меня слышите? Слышите?
Слова исчезают, сменяясь глухим погребальным звоном. Брат Паоло Полегини бьет в колокол, черным дьяволом висит на канате, раскачивая тяжелый медный язык. Брахман умен, он не захотел умирать, предатели любят жизнь…
…Бом… бом… бом…
Мертвые, мертвые, мертвые…
«…Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих! Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его: они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так! Праведные будут славить имя Твое…»
Праведные будут славить имя Твое…
Misteria finita.
Я очнулся только на переправе. Очнулся, скривился от боли, привстал, пытаясь опереться на непослушную руку.
В глаза ударило солнце. Я зажмурился, отвернулся, снова приоткрыл веки.
Зеленая стена камыша. Очень знакомая. Камыш, наглая лягушка, невозмутимо шлепающая по черной грязи… Вот мы где! Черт, но здесь же топь!
— Гуаира! Ma foi! Слава Богу!
Я попытался улыбнуться. Марс был по-прежнему хорош — в помятой каске, с оцарапанной щекой, с опаленной бородкой.
— Почему мы здесь, шевалье? Пикардиец вздохнул, мотнул головой. Я все-таки встал. Пошатнулся, выпрямился, прижал ладонь к звенящему болью виску.
— Надо… Надо прорываться к гатям! Здесь не пройти! Дю Бартас снова вздохнул, отвернулся.
Берег был заполнен людьми. Тонкая шеренга реестровцев с мушкетами, а за нею — огромная тихая толпа в белых рубахах, ноши с ранеными, какие-то повозки, несколько перепуганных лошадей. Сколько здесь народу? Тысяча? Пять? Больше? Табор остался в стороне, переправы совсем рядом! Чего мы ждем?
— Шевалье! Мы должны прорываться…
— Поздно, друг мой!
От его негромкого голоса мне стало страшно — впервые за весь бесконечный страшный день.
— Там резня, Гуаира. Вилланы пытаются уйти через болото, но в лагерь ворвалась кавалерия, они развернули пушки… Я приказал занять оборону.
Я стиснул зубы, с трудом заставив себя обернуться. Оборона? Три сотни реестровцев — и огромная безоружная толпа. Впереди — озверевшие diablerie, за спиной — болото.
— Мы пытались искать путь, говорят, тут есть тропинка. Vieux diable! Такая трясина!
Зеленый камыш застыл непроходимой стеной. Великий дух Тупи, где ты?