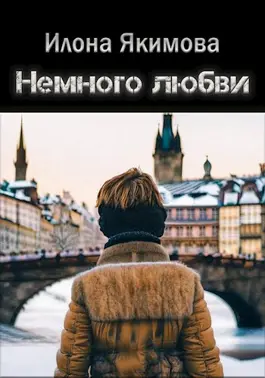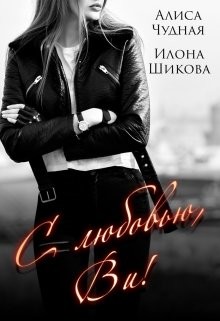по примеру полотен Арчимбольдо, лицо и плоть составляли не груды плодов, но сгустки шевелящихся, жрущих друг друга двукрылых тварей. Ян жмурился и мотал головой, но развидеть это не помогало. Он блуждал от фонаря к фонарю до самого Карлова моста, и его качало, или же это ветер качал фонари. На мосту рука все же нырнула за борт куртки за смартфоном. Новак трехнутый, это ясно. Надо поговорить с Элой, чтоб сказать Новаку, что он трехнутый, только и всего. Это не может быть она, она может быть в опасности. Что если она и сама в западне? Надо выманить Элу из логова ее самой, спасти… Да нет, это бред какой-то. Да, у нее к нему счет на километры, за все те годы-то намотала, но — к нему самому, и не настолько же! Он знал ее хорошо, она не смогла бы убить вот так хладнокровно беременную женщину. Да ни одну женщину вообще не смогла бы убить! Пусть расскажет ему, пусть четко скажет, что там было, в тех трех случаях, которые ей приклеивает Новак… и откуда у Наталки взялось кольцо. Но Эла, скорее всего, и разговаривать не захочет, не то что вернуться в Прагу. И заставить ее невозможно, чтоб не спугнуть. Может, оно и к лучшему. Может, следует оставить все как есть, теперь, когда прошлое похоронено.
Был номер, взятый у Новака. И была только одна попытка.
Выдохнул. Набрал. Услышал голос.
— Дарлинг… нам бы поговорить.
И, только сказав, понял, как пусто все эти годы звучало обращение в применении к кому-либо, кроме нее.
Глава 8 Стена Джона Леннона
В автобусе трясло, Элу лихорадило. За руль садиться она побоялась. В таком состоянии езды ей до ближайшего столба. Не то чтобы это пугало, но не так глупо же… И, собственно, она совсем не понимала, зачем возвращается в Прагу. Грушецкий в Праге. Опять. Зачем? Ей хватило той, единственной встречи. Снова ему оказалось достаточно буквально трех слов, чтоб вынудить ее добираться к нему через полстраны. Как и всегда, новая встреча закончится ничем, ясное дело. И все же она дремлет в автобусе, привалившись к стеклу головой, безжалостно замерзая, потому что ничто не греет ее в последние двое суток.
Послерождественская Прага лежала в белом, типичная женщина Альфонса Мухи, с равнодушным лицом раскинувшись на постели из снега. Как черные старые кости, выступали сквозь нежную белую плоть кровли, углы домов, кованные прутья оград. Потому что Прага всегда — смерть, просвечивающая сквозь жизнь, безумие, сформированное логикой. Ян ждал у стены Джона Леннона, где же еще, это же Ян, яркое кровавое пятно на фоне буйного граффити, черная с проседью голова. Выглядел он не блестяще — устало и настороженно. В общем, не так выглядел, чтобы это обещало ей хоть малую долю счастья. Коснуться хотелось немыслимо, но не сделал ни шага, ни жеста навстречу. Потому и не шевельнулась сама.
— Здравствуй.
— Зачем звал?
Злилась она не на него, а на себя, — что не смогла не прийти. Он-то что, он как обычно — подъест, вспорхнет и был таков. Знала, что ему просто покрасоваться, а не отказала. Это же Ян, как ему откажешь. Руки не выкрутит, а душу вынет — придешь, отдашься, даже зная, что равнодушен. И ведь опять не даст, сука. Не даст.
— Так, хотел сказать пару слов лично. Мне жаль, что все оно так обернулось.
— Если бы тебе было действительно жаль, ты бы не перетирал яйца на слова, а сделал бы что-нибудь. Сделал. Что-нибудь. За десять лет.
— Что именно я был должен сделать? Я пытался поговорить с тобой много раз.
— А, ты не слышишь…
— Меня всегда восхищала твоя сила.
Она окинула взором, приподняла бровь так, что…
Переспросил:
— Что?
— Ничего. Не канает, Яничек. Ты говоришь это, чтобы нравиться мне. Когда ты нравишься мне — ты нравишься себе. Ничего личного. На место меня можно подставить любую переменную. Ты, впрочем, и подставляешь.
— Я не сказал ничего такого, чтобы подозревать меня во лжи.
— Пока ты не сказал ни слова правды.
— Меня всегда восхищала твоя внутренняя сила.
— Когда мужчина говорит, что восхищен моей силой — ты же догадываешься, что не первый на этом поприще? — это значит, желает поиметь каким-то особо извращенным способом. Например, в душу. Как именно это хочешь осуществить ты?
— Ну зачем ты…
— Затем, что когда тебе что-то действительно надо, Ян, ты делаешь, а не пытаешься поговорить. Берешь и делаешь. Ошибаешься, косячишь, но даешь знать человеку, женщине, что она тебе ценна и важна. Проблема в том, что я никогда не была для тебя ценна как женщина. Да и для друга ты не слишком-то расстарался. А сейчас я уже и не вполне человек. Так вышло. И не понимаю, зачем тебе эта встреча, и чего ты от меня ждешь.
С Элой было сложно, потому что она всегда била по сути вопроса без обиняков.
— Жизнь, которую я вел эти десять лет, тебе бы не подошла. И сам я не тот человек, что тебе нужен. Ты достойна лучшего.
— Удивительно большое количество слов говорят мужчины, чтобы не сказать самого простого и короткого — «не люблю». Не беспокойся, я говорю это за тебя. Что дальше?
— Давай просто пройдемся? Эл, я улетаю завтра, в Прагу уже не вернусь. Можешь провести этот вечер со мной или я тебе совсем неприятен?
— У тебя очень странная манера выбирать себе спутниц на один вечер, Ян Казимир Грушецкий, Тиндер подсказал бы лучший вариант.
— Зачем же ты согласилась на встречу?
— Хотела посмотреть, во что тебя превратила жизнь. Не показалось ли мне… Ничего личного.
— А во что она тебя превратила?
Остро взглянула и промолчала.
— Эл, самолет в пять утра. Отпущу я тебя раньше. Давай пройдемся и не будем о прошлом.
В общем, да, какой смысл говорить о прошлом с человеком, с которым у тебя нет будущего? И они прошлись.
По старой замковой улице с ее елочкой выложенной двухцветной мостовой, слабо зачищенной от снега, виднеющейся в лакунах, тут же заметаемых вновь, все выше и выше поднимались они на Град, никуда не торопясь. Потому что некуда было торопиться в их последний день в Праге. Наверху снегопад прекратился, солнце пригрело, затеплело в воздухе. Возле громады святого Вита ветер и вообще выдул весь снег. Черный всадник с ангельским лицом, не колеблясь, пронзал копьем страдающего дракона. Сады Града по