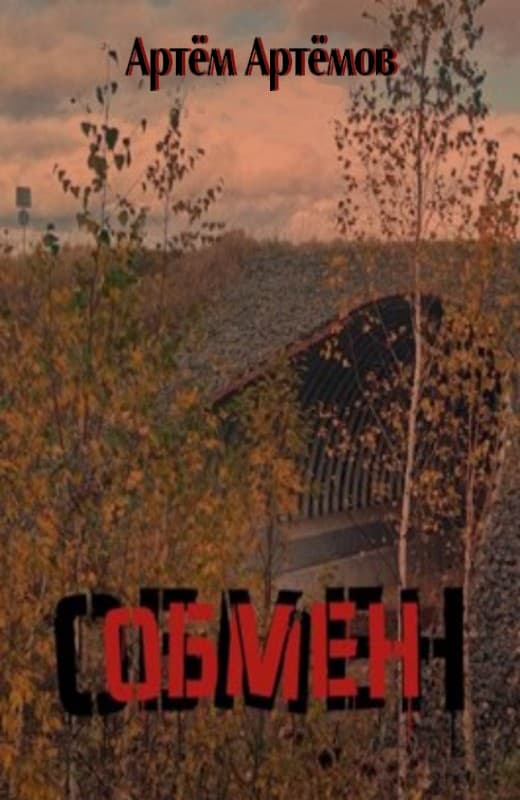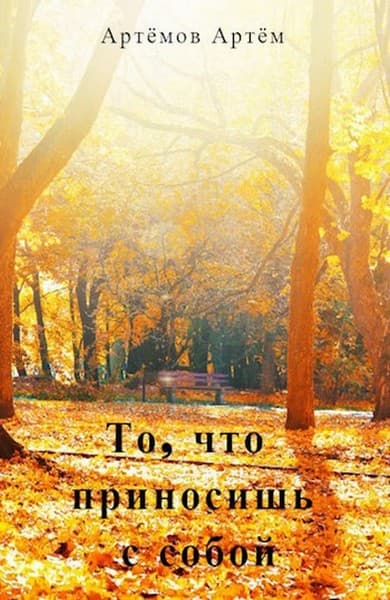на руку.
Костяшки выглядели так, будто были ободраны пару дней назад. Я поднял удивленные глаза на точеное лицо новой знакомой.
— Это как?
— Не знаю, — вздохнула Марина. — Само собой получается. Ведьма же.
— Тьфу, — досадливо поморщился я. — Что за бредни. Но это… необычно. Антонина Петровна тоже так умеет?
— Баба Тоня? Ого! Куда мне до неё. У одного мужика в деревне однажды топор сорвался, когда дрова колол. Ногу себе рассадил, даже кость видно было, так баба Тоня зашептала за пару минут, только шрамик остался. Я ещё маленькая была, но хорошо помню.
— Понятно, из-за чего деревенские вас не любили.
— Да нет, — засмеялась Марина. — Из-за этого они нас терпели. А не любили, потому что она по молодости у кого-то из здешних парня увела. Ну и другие за ней бегали, она красивая очень была.
— Ты тоже красивая, — вырвалось у меня, и Марина лукаво прищурилась. — Ну, вроде все. Теперь, наверное, так просто не выбить.
— Спасибо. Пойдем чай пить. Мне хоть поговорить теперь есть с кем, даже аппетит проснулся.
За чаем болтали о всяком — о деревенском житье, о бабе Тоне, о предрассудках и экстрасенсах. Марина, видимо, и правда боялась в старом доме одна, так что радовалась возможности поболтать и отвести душу. А я просто любовался ей, как красивой картинкой. Боль и тоска по Свете немного отступили, напоминая о себе лишь нечастыми уколами совести — несколько месяцев прошло с того дня в больнице, а ты уже с новой крутишь. Я отметал эти мысли, ну не в постель же я её тащу. Просто пьем чай, болтаем. Опять маячила на границе сознания какая-то мелочь, неправильность, но её я тоже отметал. Я устал от тоски и боли, а с Мариной впервые за месяцы смог вздохнуть спокойно.
Чай мы с ней пили в ту осень не раз. Бабу Тоню перевели в другую больницу в райцентре и оставляли там ещё на месяц, и ещё на месяц, и ещё. Марина моталась навещать её, получала её пенсию и жила в её доме. А я все чаще сидел у неё в гостях. Ездил я к ней теперь по дальней улице, чтоб не тревожить чуткий слух баб-Маруси, машину загонял во двор Маринкиного дома. Сказать, что девушка была привлекательной, значит не сказать ничего. Марина тоже особо своей симпатии не скрывала, так что как-то само собой вышло, что Новый год мы встречали уже вместе, в одной постели. Я, как ни странно, оказался у неё первым, но она быстро сократила разрыв в опыте — её тяга к экспериментам была неуемной, а фантазия, казалось, не знала границ. К весне в доме, кажется, не осталось ни одного места, где мы бы не пробовали заниматься любовью, а сам секс становился все более диким. Раньше я не замечал такого за собой, но с ней оценил прелесть умеренного насилия. Шлепки и укусы, оскорбления и царапины — это, как оказалось, заводило обоих.
Как-то ночью её коготки слишком уж глубоко впились мне в лопатку, и я в запале влепил ей полновесную пощечину тыльной стороной ладони. Она неудачно дернула головой навстречу в этот момент, и удар вышел куда более сильным, чем я хотел. Голова Марины мотнулась, взвихрив ореол темной меди, на подушку брызнули густые капли крови из рассечённой губы. Я отпрянул, схватил её лицо в ладони, собираясь успокаивать и утешать, но вместо этого окунулся в бездонные зеленые омуты звериной страсти, которые, казалось, мерцали в темноте. Она впилась своими губами в мои, а я, почувствовав вкус крови во рту, окончательно потерял голову.
Когда насилие и избиение окончилось, мы, постанывая, лежали среди измятых, испачканных простыней и одеял, не в силах шевелиться. Потом она скатилась с кровати, прошлась, потянулась в лучах лунного света, падающего из окна. Я не мог оторвать глаз от её нереально красивого тела, залитого молочным, каким-то мистическим сиянием. Тут и там гладкую кожу пятнали кровоподтеки и ссадины, кое-где из ранок текла кровь, чёрная в свете луны. На лице крови было больше всего, кроме губы я, похоже, рассек ей бровь. Это было дико, я никогда и подумать не мог поднять руку на женщину. На меня нахлынул мучительный стыд и страх, что между нами все кончено. А ещё — вожделение. Я понял, что хочу её сейчас. Опять так же дико, по-звериному.
Она глянула не меня искоса и пригрозила пальчиком:
— Хватит, хватит. Хорошего помаленьку. Успеем ещё, — Марина опять сладко, по-кошачьи, потянулась, согнув ногу и вскинув над головой сплетенные руки. — У нас вся жизнь впередиииии…
А потом начала стряхивать с себя синяки и кровоподтеки, будто пыль. И они сходили на глазах, оставляя только темные разводы крови на гладкой коже.
— Ведьма, — простонал я, моя собственная спина горела огнем, болели искусанные губы, саднили царапины на бедрах и лице, почему-то болело ухо.
— Ага, — легко согласилась она, слизывая кровь с губы вместе с рассечением. Миг — и губа снова стала целой, по-детски припухшей, с такой знакомой ложбинкой посередине.
— Сядь, горе луковое. С тебя стряхну. Ой, Вить…
— Что?
— Витька прости, я тебе вроде немножко… мочку немножко откусила, — зеленые глаза были полны раскаяния. — Вить, я не хотела… Ну, то есть, хотела, наверное, тогда, но сейчас что-то ой…
— Так зарасти, делов-то, ты же умеешь. У тебя вроде все лучше и лучше получается, вон как себе губу с бровью затянула.
— Так то себе, себе всегда легче. Да и практики у нас много в последнее время, — хитро улыбнулась она. — Зарастить-то заращу, только я ранку могу затянуть, а кусочек мочки отрастить не умею.
— А обратно прирастить? — волшебные теплые ладони Марины стряхнули с тела всю боль и сейчас невесомо скользили по груди и бедрам, прогоняя тревогу, потеря кусочка уха не казалась такой уж трагедией.
— Ты откуда его достать хочешь? — засмеялась она. — Из меня? Я обратно никак.
— Ты его проглотила, что ли?
— Я, думаешь, помню? Нет, блин, спрятала. Засушу — амулет сделаю. Я ж ведьма.
— Ты теперь формально ещё и людоедка, между прочим.
— А ты упырь! Кто у меня кровь с груди слизывал?
— Я тебе сам сейчас что-нибудь отгрызу, — её ладони на бедрах сделали свое дело. Я с рычанием сбросил её с кровати на пол и вновь окунулся в дикую круговерть того, во что превратился теперь наш секс.
Эта зима была самой жаркой в моей жизни.
Жаркая зима — к холодному лету, логично ведь? Могильно-холодному, если хотите.
Началось мое холодное лето не по-календарному, в