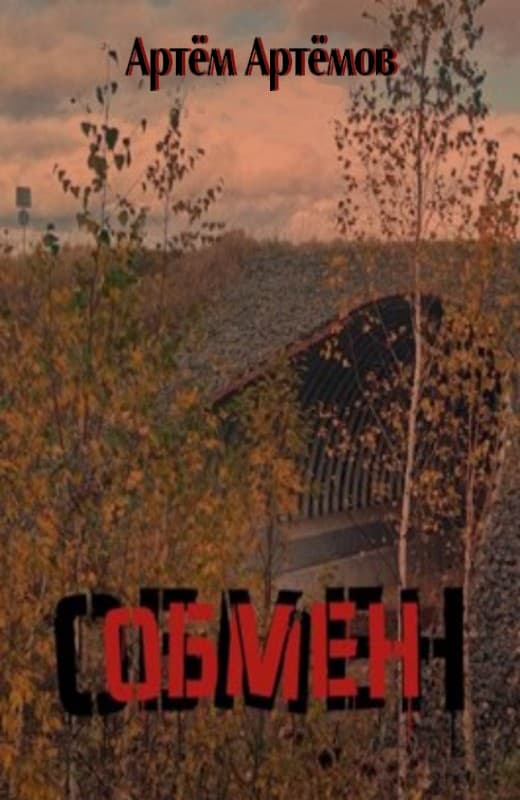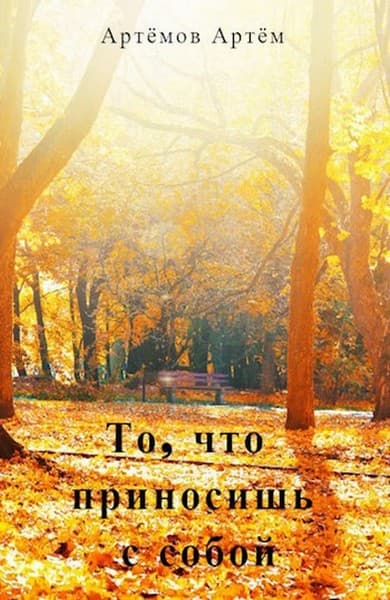не мог. Я оглох и ослеп, рот наполнился пороховой гарью, ревущий огненный бур ввинтился через подбородок в верхнюю челюсть и выплеснулся раскаленным фонтаном жидкой магмы где-то под глазом. Я чувствовал во рту обожженный разорванный язык, осколки зубов и костей. От страшной боли меня скрутило, швырнуло на пол. Потом вырвало, горячая едкая желчь, ударив в искалеченный рот, вывела боль на новый уровень. Кое-как выхаркав сгустки крови, куски плоти и осколки зубов, я завизжал, извиваясь на полу, выворачивая ногти о половицы и даже не замечая этого. Ослепленный, оглушенный, я бился в луже собственной крови и желчи, мечтая только об одном — чтоб кто-то доделал то, что не удалось мне. Или…
О её руках, изгоняющих боль. Кажется, я начинал жалеть, о том, что сделал с ней.
А потом, с тошнотворной смесью ужаса и облегчения, я, словно сквозь вату, услышал торопливые шаги в сенях, в задней.
И голос:
— Ох ты ж мать твою, Витя! Да что ты себя не бережешь-то совсем! Погоди, погоди, я сейчас. Я за ведром сразу пошла, так и знала, что замывать надо будет. Блииин, Витюш, ну ты дурак.
Дурак, думал я. Дурак. Горячий ветер подул в лицо, прогоняя боль, ласковые теплые руки разглаживали, лепили заново челюсть, скулу. Облегчение было таким огромным, что кружило голову, из глаз покатились слезы, меня затрясло.
— Ну вот, и ногти все поломал. Разве можно так? Ну, зачем ты, Вить.
— Заморочила, — пробормотал я, не открывая глаз, наслаждаясь тем, что язык снова цел, что исчез ревущий огненный бур боли. — Глаза отвела, ведьма.
— Ну конечно, что я чокнутая, что ли — семь пуль в голову? Лежи потом пластом неделю, ни поесть, ни попить, ни тебя, дурака, по кускам собрать. Мозги чинить — это тебе не зубы растить, приходилось уж, не только пулями их попортить можно. Но я такого больше никому не позволю. А породистых жеребцов, вроде тебя, найти ещё сложнее.
Она чмокнула меня в лоб, встала и ушла в заднюю, загремела посудой.
— Колю сам ночью за домом закопаешь. Хорошо, что рано утром притащил — не видел никто. Ну а если искать будут — отведу глаза, не впервой. Только не води ты больше никого, я убивать-то не так чтобы люблю, — Марина появилась в проеме двери. — Меня убьешь потом, и ладно. Хочешь, вон, пистолетом забить? И изнасиловать?
Знала, думал я. И про семь пуль в голову. И про восьмую — в себя. Все знала. И рука у меня не от горячего дула дрогнула. А могла ведь и просто палец удержать. Вообще могла не давать стрелять. Убивать она не любит. Сука. Эх, Николай Михалыч, Коля, прости дурака.
А ведь я теперь как она, вдруг дошло до меня. Убийца, насильник, садист. Упырь, древней крови причастившийся, ведьмой меченый. Подходящий спутник для рыжей бестии. Хочу ли я её убить? Хочу, понял я. Пистолетом забить. И изнасиловать.
— Ведьма, — я встал, стараясь не смотреть на тело участкового у стены, голова слегка кружилась. — Сука.
— Какая есть, — с притворным сожалением развела она руками. — Пошли кофе пить, ты ж не завтракал, я яичницу пожарила. Потом приберемся. Его крови много можно теням скормить, он человек обычный, да и день на дворе.
Я жевал яичницу зудящими недоросшими зубами, глотал горячий сладкий кофе, смывая вкус крови, желчи и пороха. Вкус пороха смывался плохо, дым все ещё витал в избе.
— Про порчу правду говорила?
— А зачем врать, правду, — Марина отпила кофе и поморщилась. — Весь дом этим дымом провонял, Вить, — она вдруг вздохнула с неожиданной грустью. — Ты не думай, я не зверь, не чудовище. Ну, почти, но не совсем уж. Не врала я тогда, ночью. Жалко мне было Светку твою. Всех их жалко, но своя рубашка, она к телу ближе.
— От этого ворота перекосило по оттепели?
— Какие ворота? Аааа, да ты что, мой хороший, — девушка опять засмеялась, запрокидывая голову. — Думаешь, я с этими яйцами и нитками кровавыми там копалась? Нет, ну века два назад я так и делала, но я на месте не стою. Сейчас мне на это пары слов хватает, хотя прийти ночью к воротам, конечно, пришлось. Продукты портились у вас?
— Я ведь убью тебя, все равно, — апатично сказал я.
Не было больше сил на злость. Ни на что пока сил не было.
— Сука.
— Ррррр, — Марина вздернула верхнюю губу и смешно сморщила носик. — Не дразни, знаешь же — я с этого слова больше всего завожусь, а тут ещё и кровью пахнет.
— Как ты выглядишь? На самом деле?
— А тебе не все равно? Захочу — ты и с бабой Тоней трахаться будешь, как бешеный, веришь?
— Верю, — отрешенно кивнул я.
Я верил. Захочет — буду. Разбудит ярость, поднимет зверя внутри, хлопнут за спиной темные крылья, зальет взор багровая пелена. Канет все в зелёный омут мерцающих глаз, будет биться тугой смерч разрывающей похоти и разрываемой плоти. Со старухой, со зверем, с трупом участкового. Если она захочет — буду. Может, даже сам захочу.
— Не хотелось бы с бабой Тоней, — все же уточнил я.
— И мне не хотелось бы, — серьёзно сказала она. — Я женщина, Виктор, неважно, сколько мне лет. Я красивой быть хочу, желанной. Да и из деревни давно пора выбираться, город осваивать, технику. Поженимся — я к тебе туда перееду. Пей кофе.
— Кофе, — пробормотал я. — Коля вон тоже кофе твоего попил.
— Ты про воду-то? Это не сложно, — улыбнулась Марина, задумчиво глядя в окно. — Я ему могла из унитаза зачерпнуть или вообще жижу из канавы, все равно пил бы и нахваливал.
— А мне ты настоящий сделала? Или как ему? — я мотнул головой в сторону передней.
— Растворимый — это разве настоящий? — пожала она плечиком, отбросила медную прядь с лица и посмотрела мне в глаза мерцающими изумрудными омутами. — Тебе сейчас не все равно уже?
— Все равно, — безразлично согласился я.
И стал пить кофе.