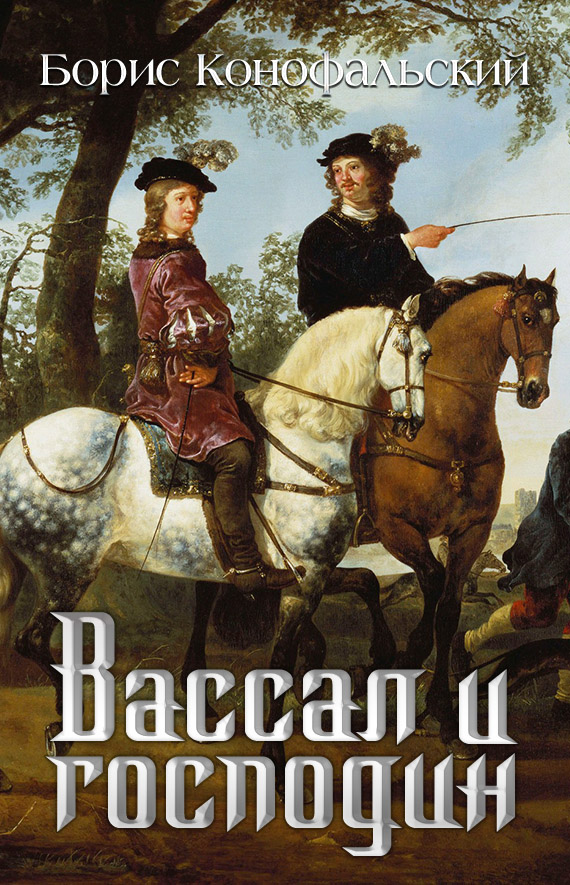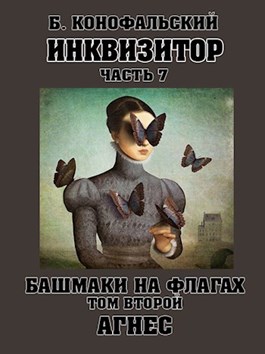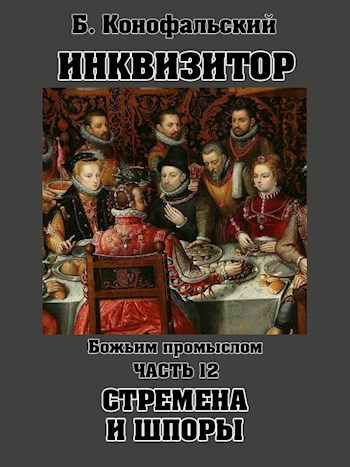Чертов трус, а ты мне говорил, что он не трус, а просто дурак. А выходит, что как раз наоборот, – шипел кавалер.
– Какого дьявола, я с тобой, Фолькоф, я с тобой, – заговорил Роха, пытаясь успокоить кавалера, – а кого вы приложили? Герб видал его?
– Видел, вон, в телеге щит его лежит и штандарт, Ливенбах он.
– Ты и вправду Ливенбаха угомонил, ты лично? – Лицо Рохи изменилось. Теперь он и сам, видимо, волновался. – В поединке? Насмерть? А какого из них?
– Хватит задавать мне вопросы, Пруфф и его сброд трясутся весь день, еще и ты будешь?
– Так насмерть убил? – не отставал Скарафаджо.
– Ранили, но в голову, из мушкета, твои Хилли-Вилли. Его пажи увезли.
И тут лицо Рохи изменилось, он вдруг обрадовался.
– Хилли-Вилли? Из мушкета? – заорал он. – В башку Ливенбаху? Ай да молодцы, не зря я их стрелять учил! Это я их учил стрелять, я, Игнасио Роха! Где мои мальчики? Знают ли, кому влепили пулю?
Он быстро и ловко нацепил свою деревянную ногу, словно сапог, и вскочил:
– Хочу поздравить ребят, где вы, парни?
Волков поймал его за рукав:
– Роха, впредь не смей мне перечить при моих людях. Слышишь?
– Я понял, Фолькоф, понял, ты теперь офицер. Теперь ты еще и рыцарь, все я понимаю, не дурак авось, – отвечал Скарафаджо успокаивающим тоном и пошел к мальчишкам. – Просто думал, по старой памяти, как старые друзья… Поболтать можем.
– Можем, когда никто не слышит, – сухо сказал кавалер.
Встал, пошел к своей телеге.
А Роха опять заорал, размахивая кружкой с вином и приплясывая на своей деревяшке. Он был весел, хотя Волков догадывался о том, что дается ему это не просто. Скарафаджо орал и поздравлял Хилли-Вилли так, чтобы все слышали. Он требовал для них вина и нахваливал их, называл их «мои ребята», и делал он все правильно. Мальчишки конфузились от такого внимания, краснели и были горды. А люди капитана Пруффа, видя, что Роху совсем не беспокоит ранение Ливенбаха, уже и сами не так тревожились. И стали тоже поздравлять мальчишек.
А потом те, кто ходил за водой, взялись делить деньги, что были найдены у убитого сержанта, не забыв про долю кавалера, потом стали выпивать. И потихоньку, не сразу, уже почти в сумерках, кто-то стал петь солдатскую песню, и Скарафаджо ее подхватил, пел фальшиво, но громко и смешно. И у костра, где он сидел, стали собираться солдаты, подпевали, ели, смеялись.
А Волков, сидевший в одиночестве с кружкой вина, мрачный и абсолютно трезвый, подумал, что не зря дал Рохе три талера и согласился взять с собой. Больше, чем на Роху, ему положиться здесь было не на кого. Не на Ёгана, не на Сыча и не на двух мальчишек, что сидят у костра с Рохой, пьяные и счастливые. И уж точно не на людей Пруффа или монахов. Да, только Игнасио Роха по прозвищу Скарафаджо, только он один в этом провонявшем трупами городе был человеком, на которого кавалер Иероним Фолькоф мог рассчитывать.
«Да, хорошо, что я взял этого колченогого черта с собой», – подумал кавалер и крикнул:
– Ёган, уксус мне, буду мыться!
– Иду, господин! – отозвался Ёган, которому вовсе не хотелось уходить от костра, где было так весело, но встал и пошел за ведром.
Слуга заметно хромал, но кавалеру казалось, что хромота его фальшива. Не так уж страшна была рана, брат Ипполит давно ее обработал и сообщил Волкову, что в ней нет ничего страшного, болт только порвал кожу да малость мясо проткнул, на полпальца.
Кавалер разделся, стал мыться, Ёган кряхтел, протирая его уксусом.
А он думал, думал о том, что этот день они прожили, но что ему делать дальше? Что ему делать завтра? Ждать действительно было нельзя. Так можно дождаться большого отряда еретиков или язвы на ком-нибудь из людей Пруффа. Или каверзы от чумного, мерзкого докторишки. А еще он думал о каком-то белом человеке, о котором говорила Агнес. Волков думал обо всем этом постоянно. Весь вечер, когда остальные пили вино у костра и пели песни, он продолжал размышлять о завтрашнем дне. И хорошо, что он сегодня сильно устал, опасная стычка, пара тяжелых разговоров давали о себе знать, иначе эти мысли не дали бы ему уснуть.
Он лег в телегу, под плащ, не снимая кольчуги и сапог, как знал, что ночью придется вставать.
Луна была не меньше, чем в прошлую ночь, такая же огромная и белая. Так же, как и вчера, кавалер залез на бочки, что стояли у стены, и глянул вниз, там, на улице, опять слонялись люди, только было их намного больше, чем вчера. И они вновь кидали камни.
Стоявший рядом арбалетчик Пруффа произнес:
– Господин, я кинул два болта вон в того, – он указал на самого близкого человека, – не мог я промазать два раза, а он стоит, даже и не пискнул, ему словно до одного места мои болты.
Волков прекрасно видел того, в кого стрелял арбалетчик, никакой арбалетчик не промахнулся бы в человека, что стоит от него в двадцати шагах и освещен полной луной. Разве что арбалетчик был пьян или слеп. Кавалер не придал бы значения этим странным людям, что стояли на улице, и лег бы спать. Но все его люди не спали, а в голосе арбалетчика слышалась тревога. И солдаты капитана Пруффа, и его люди не понимали, что происходит, и поэтому боялись. Нужно было что-то делать, и он приказал, спрыгивая с бочки:
– Ёган, доспех, ты и Сыч пойдете со мной, бери алебарду, Сычу секиру, мне мой щит подай. Арбалет возьми, но не заряжай. Капитан, десять самых крепких ваших людей со мной пойдут, пусть готовятся. Роха, ты, Хилли-Вилли и еще шесть человек пусть останутся у ворот, будьте начеку, может, вам придется выходить нам на помощь.
– Значит, вылазка? – спросил Роха, потягиваясь со сна.
– Надо выяснить, что это за сброд, – отвечал кавалер.
– Решение верное, – поддержал рыцаря Пруфф, – я тоже хочу знать, почему эти люди не дают нам спать.
– Господин, коня седлать? – спросил Ёган.
– Нет, пеший пойду, в темноте с конем морока. Шарахаться начнет.
– Пеший пойдете? – Ёган переспрашивал с укором, куда, мол, вы хромой пойдете, да еще щит на больное плечо повесив.
– Пеший, – повторил кавалер и пояснил: – Выйдем за ворота, возьмем одного из них и обратно.
Вылазка есть вылазка. Дело серьезное, одно из самых опасных дел на войне. Наверное, только штурм городских стен да штурм пролома по опасности сравнятся с вылазкой. И