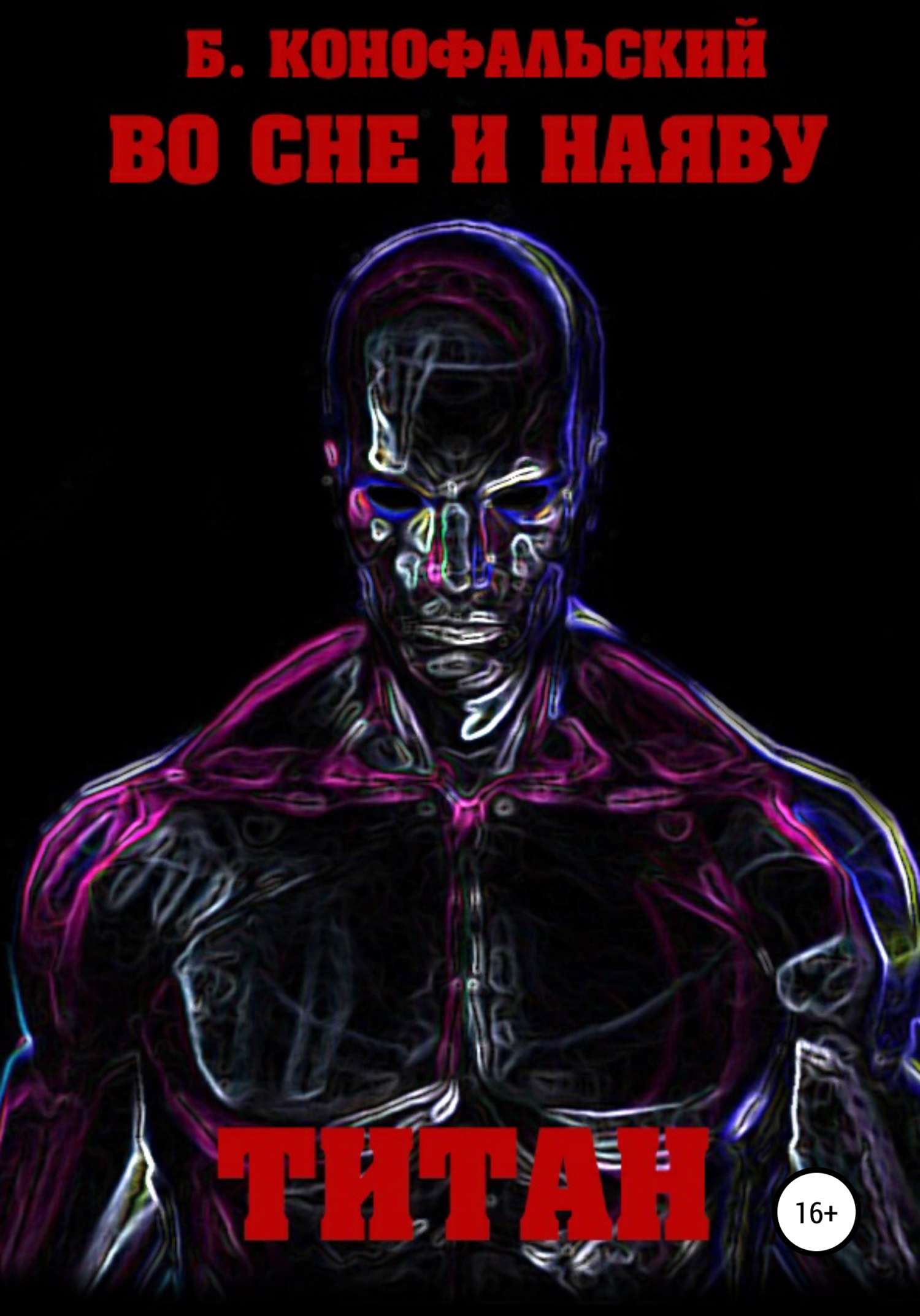Сыч и монах ее видели недавно в людской, у своей лавки сидела, пела что-то, а сейчас нет. Думали, в нужник пошла, так Сыч проверил, крикнул – и там нет ее.
Это известие огорчило Волкова больше, чем появившийся живот. Уж чего точно ему не хотелось, так это одеваться и тащиться куда-то на ночь глядя и выбирать себе бабенку.
– Ищите, – строго сказал он, – не найдете, отправлю вас другую мне искать.
– Ищем, – произнес Ёган со вздохом и ушел.
Сам Волков зажег в подсвечнике все пять свечей, чтобы не заснуть, пошел в спальню и повалился на перины в ожидании.
И тут в дверь постучались, чуть подождали и еще раз постучались. То был не Ёган, дурень вечно забывал деликатничать. Видно, девчонка нашлась; дуреха, дверь вроде не заперта, а она не входит. Волков встал и, как был бос, пошел, взяв с собой подсвечник, проверить, вдруг он закрыл дверь.
Кавалер толкнул ее, чтобы впустить Эльзу, и замер, пораженный – одна рука на ручке входной, а во второй подсвечник. Перед ним стояла не девочка с худыми ногами и тощим задом, а ангел в обличии женском, не иначе: прекрасная Анхен, которую все звали благочестивой, и свет от нее шел, освещая полутемный коридор.
Была она в платье изумительном, работы искусной, с лифом таким прозрачным и тонким, что под ним кавалер разглядывал округлые пятна сосков. Не ткань, а насмешка, грудь ее словно и не прикрыта вовсе. А плечи и руки так и совсем голы, только шаль наброшена такого же тонкого полотна, что и лиф у платья. На голове, на затылке, красовалась заколка из синего шелка, что так хорошо шел к ее темно-серым глазам, а руками своими она платок комкала от волнения, и щеки ее тоже красны были. Улыбалась красавица неловко, смущалась. Ждала, что он заговорит с ней, но кавалер от вида ее так растерялся, что и слова молвить не мог. Молчал и подсвечник держал да глаза на красоту таращил. Как мальчишка, оторвать взгляда не мог от груди ее, хотя уже и зрелый муж был.
И тогда заговорила женщина, краснея еще гуще, и словно колокольчиком из серебра чистого звенела:
– Не потревожила ли я вас, рыцарь божий, в час такой?
И вроде как телом своим роскошным к нему подалась, войти, наверное, хотела.
Он сначала от волнения только кивнул в ответ, но тут же, одумавшись, сказал:
– Нет, отчего же.
Но дверь ей не распахнул, а почему, и сам понять не мог, так и стоял на пороге, не приглашая гостью войти. Боялся, что ли.
– Как увидала вас у себя в приюте, так все забыть не могу. – Колокольчик, да и только. Она так говорила, что от голоса одного можно было с ума сойти. – Дай, думаю, навещу, мне, женщине одинокой, авось не в укор к мужчине зайти да поговорить.
– Не в укор, – машинально соглашался Волков. А сам думал, что в укор. – А о чем же вам со мной говорить?
– А хоть о Вильме и делах, что в городе творятся. Неужто мы разговора себе не найдем? – Она глядела на него и лукаво, белозубо улыбалась.
– Найдем мы разговор себе, – кавалер сначала стеснялся глянуть на ее грудь, а теперь уже разглядывал открыто и наполнялся желанием.
А она видела это и продолжала, приближаясь к нему:
– Да про вас я хочу говорить больше, а не о делах.
Он изумился и на грудь ее пялиться перестал, в глаза серые глянул. А женщина звенела дальше:
– Как пришли вы к нам, так затосковала я, годами одни бабы да девки вокруг, из мужей только привратник, да и какой он муж. Место пустое.
Он стоял и слушал ее. Млел он от ее слов, словно мальчик от любви, взгляд оторвать не мог от красавицы. Но ни на шаг не отходил от порога, словно велено было ему кем-то сторожить его.
– То ли дело вы, от вас силою пахнет, – продолжала она. – Хочется, чтобы вы дозволили сапоги вам снять.
Гнули его ее слова, словно кузнец гнет железо раскаленное, но что-то держалось в нем крепко.
Волков не мог понять, что тут не так, и сам не знал, почему не схватит ее прямо тут, на пороге, за грудь. Разве ж грудь ее плоха? Разве ж будет пришедшая против? Нет, не будет, сама свою красоту ему подставляет, только руку протяни. И не плоха, таких грудей век ему не сыскать: не висит , и крупна, и тяжела, а торчит, как у юной девушки, хотя и не должна быть она юной. И губы, губы ее шевелящиеся, манящие тянули его вроде, а вроде и отталкивали, боялся он их, словно ядовитых, и тут же целовать хотел так, чтобы зубы касались, и с прикусом, до крови.
– А вы встали надо мной, такой огромный, и руки у вас крепкие, словно из железа, – продолжала говорить красавица, и от говора ее серебряного он пьянел словно, – а я говорила с вами, а сама думала, что вот-вот возьмете вы меня за грудь мою своими руками, а я и не буду против. Да хоть и не за грудь, хоть за зад – хочу, чтобы крепко взяли, чтобы синяки потом.
Снова гнула она его, каждым словом гнула. Так и манила к себе, в себя.
Он стоял и слушал ее, словно песню колдовскую, и чувствовал, что слабеет, что прикоснется к ней вот-вот. А она сделала шаг к нему, и почти коснулась грудью своей его груди, и слух его ласкала, серебром звенела, и глазами своими темно-серыми в его глаза заглядывала, и дышала ему в лицо, и дыхание ее было как молоко с медом. Но не сдавался он, не отворял ей дверь. Стоял в проходе, как будто в строю стоял, в бою, ни на шаг не отходя. А она все говорила и говорила, серебром осыпала, аж голова кругом – и все вглубь, все словно в омут тянула:
– А уж как нам сладко будет, когда решишь брать меня. Истосковалась я, соком женским изошла от мысли о тебе. А знаешь, какова я? Уснуть не дам, просить будешь, чтобы не останавливалась, так до утра не остановлюсь. Тело у меня молодое, а руки нежные, а язык у меня неутомим – не знал ты ласк таких, что дам тебе я. Все, что захочешь, твое будет.
А кавалер стоял истуканом, туман и жар одолели его одновременно, и подсвечник уже в руке дрожал, огоньки играли, и готов